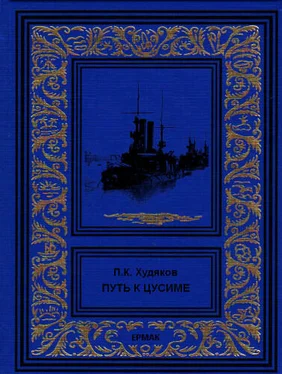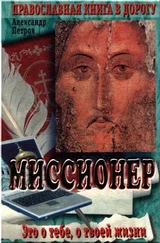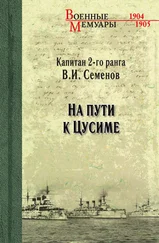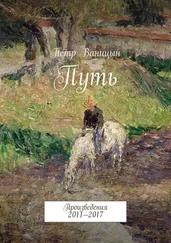* * *
Отметим далее речь прис. пов. Волькенштейна, защищавшего офицеров и механиков броненосца "Орел", которых прокурор обвинял в том, что они не взорвали броненосца.
"С самого начала боя на "Орле" место раненого командира занимают его преемники. Броненосец сражался, дышал огнем и смертью, горел и тонул, а в боевой рубке два человека под огненным градом, среди трупов, оба израненные, окровавленные, вели свое судно все вперед и вперед, в самое пекло огненного ада. Над океаном нависла ночь; грохочущий и шипящий хаос сменился жуткой, полной неведомых ужасов тишиною. Броненосец померк и пробирался вперед сквозь стаю реющих миноносцев, жаливших его со всех сторон. А в боевой рубке все стояли эти два человека (Шведе и Шамшев), истекая кровью, руками зажимая раны, теряя сознание и попеременно заменяя друг друга… Наконец прорвались. Неприятель отстал; на броненосце люди свалились обессиленные, а эти двое все еще наверху, отдают приказания, готовятся к новой борьбе и к новым ужасам… К утру Шамшева унесли, и Шведе остался один. Адмирал сигнализировал ему: "Без цели я не могу людей губить, а ты как хочешь!" — Седовласый Шведе оглянувшись кругом на груды трупов, на изможденные лица, тоже сказал: "И я не могу!" Сказал и заплакал слезами нестерпимой обиды. И офицеры поверили этому "не могу"; его слезы для них были святы… Сдались неприятелю!.. Но его не было; был полновластный хозяин на море. На "Орле" все было готово к затоплению, а его все-таки не затопили, п. ч. жалко стало родного корабля. Этот железный гигант был калекой от рождения , прожил в работе менее года; и вся его недолгая жизнь была сплошным страданием, сплошной борьбой с собственными немощами по преимуществу. Его выходили; месяц за месяцем врачевали его недуги, выправляли его ломкие, непослушные члены… Из Цусимского хаоса вырвался "Орел" избитым, изувеченным. Броня его, кожа чудовища, была цела, но внутри все было разбито, исковеркано. Только сердце чудовища, — его машина, еще работало. Чудовище ползло, как черепаха, у которой под ее твердой спиной разворочена вся мякоть; ползло, сваливаясь на бок, снова выпрямляясь, захлебываясь волной; ползло без огней, ослепшее, темное, сквозь ночную тьму и туманы… И людям было жаль расстаться с родным гигантом, ставшим усыпальницей лучших из них. Мичман Карпов, накануне бросавшийся смерти прямо в когти, теперь говорил: " Мы, офицеры, виноваты в позоре; мы были ниже команды; мы не сумели умереть. А почему не сумели, тому есть простая разгадка. Такие противоестественные дела, как война, должны иметь какую-нибудь цель, которая бы одурманивала людей, доводила их до экстаза, до подвига, до самопожертвования. Подвиг — дело веселое, самопожертвование — дело безумия, восторга. Упоенному своей целью не страшно умирать. Четырнадцатого мая все были в диком упоении, все выполняли самоотверженное служение своему долгу и богу войны; но 15-го мая восторга уже не было, не было и веры в этого бога, пожравшего тысячи жизней, проглотившего достояние целого народного поколения и ничего не давшего за все эти жертвы. И вчерашние герои, самоотверженные подвижники, разъяренные мстители за народную гордость на утро превратились в трусов, изменников, предателей. Вчера они дерзко смотрели в глаза смерти, а сегодня не умели умирать с честью. Вчера они не обращали внимания на стоны, на смерть товарищей, а сегодня эти стоны заглушили в них голос воинской чести и национальной гордости. Дело в том, что они увидели перед собой японскую эскадру из 27–28 судов, невредимых, нарядных , как на смотру… Они увидели, что все вчерашние жертвы были бесплодны, что страна и народ, давшие больше, чем могли дать, остались не защищенными, бессильными до жалости, до смешного. "Офицеры били ниже команды", говорил мичман Карпов. Думать так значит оскорблять команду. Она сильнее нас может чувствовать всю бесплодность народной жертвы, всю позорность и греховность ненужной, безыдейной войны. "Не нашлось ни одного энергичного офицера", сетует мичман. Это только слова. Будь в команде восторг подвига, и какой-нибудь боцман, последний штрафованный матрос увлек бы за собой и матросов и офицеров. He страх смерти сломил этих героев. Они сознавали безвыходность своего положения; сознавали, что смерть неминуема, и все разошлись по местам по боевому расписанию, доживать последние минуты. Они сдались перед нравственной силой вражеского народа, так умело и плодовито использовавшего народные силы и жертвы. Бывали сдачи в истории, но никогда они еще не были так позорны. Причиной их бывали ошибки людей, или шалости стихий. Позор этой сдачи — в ее неминуемой неизбежности. Она была предопределена человеческими грехами. Но позор этой сдачи падает не на этих людей; их самих он сломил. Этот позор и несчастье обманутого и обманываемого народа падет на голову тех, кто посылал людей на подвиг не во имя народного блага, а во имя собственной греховности. И сводить позор Цусимского погрома к Небогатовской сдаче — значит длить вековечный обман народа".
Читать дальше