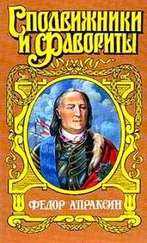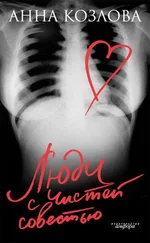Сокращение обоза, кроме препятствий материально–технического порядка, встретило трудности, так сказать, этические.
Ездовые пытались как–нибудь объегорить комвзвода и старшину. Те сообща втирали очки командирам рот, эти соответственно обрабатывали комбатов. Комбаты умоляли штаб накинуть еще хоть что–нибудь поверх строгого лимита на повозки. Но штаб был неумолим. Паломничество комбатов началось на третий день. Они по очереди являлись к Базыме. Тот сидел подобно каменному изваянию, не моргая, слушал получасовую адвокатскую речь Кульбаки, насыщенную доводами, примерами наиубедительнейшего порядка. Наконец красноречие истощалось и, вытерев пот с лица, комбат умолкал. Базыма откладывал в сторону ведомость с разверсткой арб и вьюков.
— Все?
— Кажись, все.
— Теперь слушай команду. Кру–гом! К себе в батальон — шагом марш! — Уже вслед уходившему Григорий Яковлевич говорил, все повышая голос: — Ты що думаешь, я сам не знаю того, с чем ты меня агитировать пришел? Знаю. Нельзя, и точка. Не можем мы в горы таким табором влезть. И ты должен своих людей агитировать, а не меня. Чтоб массы сами поняли. И сокращались. А ты в хвосте плетешься. Ко мне лезешь. А я что — господь–бог? Я эти горы сотворил? Нет… В общем, ступай!
Но «массы» не поддавались. Не так–то легко было убедить людей отказаться от последнего удобства в этой и так мало уютной походной жизни.
У Базымы начали сдавать нервы, но старик держался изо всех сил. А на пятый день разыгрался из ряда вон выходящий скандал. Повозочный Велас чуть не избил главного хирурга Ивана Марковича и грозился его застрелить.
Серьезный, вдумчивый врач Иван Маркович Савченко, уже около года работавший в отряде, пришел в штаб просить защиты.
— Управы на него нет. Совсем взбесился, старый черт.
— Да в чем дело? — спросил врача Базыма.
— Обоз мы сокращаем? Приказ ваш был?
— Ну был…
— А тяжести, грузы?
— Это как сами считаете.
— Вот я и считаю. Надо раненых спасать, а у нас аптека и медикаменты да перевязочные материалы на трех тяжелых возах еле вмещаются.
Базыма понял: главврач просил надбавки.
— Приказ и точка. Никаких. Сколько у тебя там? Кроме тех, что для раненых?
— Две арбы.
— Ничего не добавлю.
— Да я и не прошу. Стал я сортировать всю аптеку. Не могу же я препараты бросить! Сульфидин, стрептоцид… Да и не столько там веса. Индивидуальные пакеты — тоже, вот и набралось. Хирургический инструмент — тоже. Все лишнее я выбросил долой.
— Значит, можно обойтись?
— И сколько получилось?
— Ровно две арбы. Полные доверху. Но если упаковать хорошо, все необходимое вмещается. С трудом, но…
— Ну, так в чем же дело?
— Да опять же с Веласом.
— А что он — отказывается везти?
Комиссар, присутствовавший при разговоре, сказал:
— А ведь верно. Трудно старику по горам. Можно назначить ездового помоложе.
— Да нет, наоборот.
— Что такое? В чем же у вас главная трудность?
— Автоклав…
— Не понимаю.
Я давно замечал пристрастие повозочного Веласа к странному предмету, похожему на огромный самовар, какие мне приходилось видеть лишь в детские голы на станции Жмеринка. Звалась эта махина — автоклав. Предназначенный для стерилизации инструментов и бинтов в стационарном госпитале, он был невозможно громоздок и неудобен для перевозки. Еще первый партизанский врач Дина Маевская каким–то образом сумела убедить старика Веласа, в течение всей своей шестидесятилетней жизни и не подозревавшего, что на свете есть такие штуковины, в том, что от этой громоздкой и несуразной вещи зависит чуть ли не существование отряда. И если бы не забота Веласа, уже давно раздобыли бы мы автоклав, более подходящий для рейдовой хирургии. Но Велас возил этот громоздкий неуклюжий чан безропотно, больше того — самоотверженно, уже два года. И довез–таки в Карпатские горы. Я не раз видел на переездах старика, под обстрелом прикрывавшего собственным телом огромный автоклав. Ездовые посмеивались над Веласом, затем бросили: упорство в выполнении долга, даже если речь идет о самом маленьком долге, всегда вызывает в конце концов уважение. Люди видели — фашисты могут убить любого из нас, могут растрепать отряд, могут бомбить, обстреливать, покрывать минометным огнем, но, пока жив Велас, автоклав будет цел и невредим. И к началу работы полевого хирурга будет он весело шипеть, выпуская парок, блестеть надраенными боками, в которых отражается лохматая стариковская голова Веласа… Это стало уже привычкой, бытом…
Читать дальше