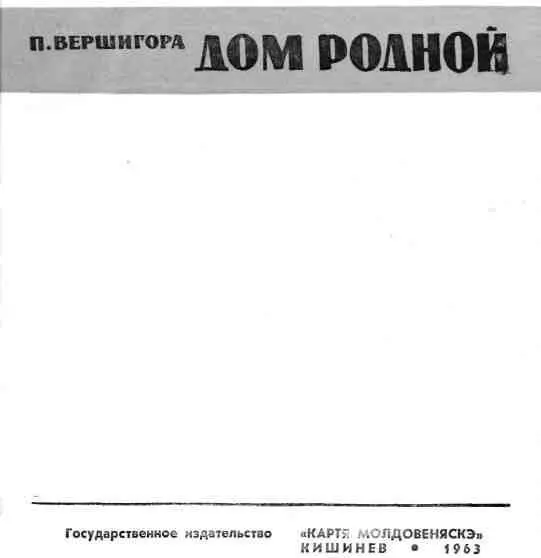…Мысль — более прочный оплот, чем пушки! Артиллеристы — к своим орудиям…
Ромен Роллан
Здесь дым один, как пятая стихия.
Дым — безотрадный бесконечный дым!
Ф. Тютчев
1
Бой не стихал. Он разгорался все сильнее, и капитану Зуеву начало казаться, что это, пожалуй, последний бой в его жизни. Был еще проблеск надежды: минометы противника ухали где-то вдалеке, накрывая беглым огнем батальон соседа — Васьки Чувырина, а против участка Зуева работали лишь тяжелые пулеметы врага. Вестовой еще не успел отрыть ни блиндажика, ни даже окопа, как два немецких станковых пулемета прижали комбата к земле. Вестовой был убит. Зуев, прижимаясь всем телом к земле, удивлялся: «Я до сих пор жив? И даже не ранен…»
Но тревожило капитана совсем другое… По давней привычке сразу охватывать мыслью происходящее на своем участке, он ясно понимал, что бой этот обычный и сто́ит только умело распорядиться огнем батальонных минометов, бросить автоматчиков в обход, наконец, в крайнем случае, дать заявку в полк с просьбой подбросить «мешочек огурцов» — и попытка противника потеснить его на узком участке его батальона будет ликвидирована. Но, странное дело, именно с начала этого боя комбат чувствовал себя парализованным как командир. С ним случилось необычное, почти небывалое за последние полтора года: он только каким-то подспудным чувством помнил еще о своих обязанностях комбата, вернее, машинально думал о них: а всем его существом овладел страх, самый простой и, как бы сказал полковник Корж, примитивный собачий страх за свою шкуру. И это было хуже всего. Годами для него в бою главным была ответственность за жизнь своих людей. Откуда же вдруг вылезла эта штуковина, из-за которой надо либо пускать пулю в лоб, либо с презрением относиться к себе, как к самому последнему трусу, достойному штрафбата? Зуев ощущал, что натренированная воля, привычка к частому пребыванию под огнем исчезли, а всем его существом, чувствами, мыслями владел только страх, один страх, который — он хорошо знал это — чаще всего и приводит к гибели.
«Неужели в последний раз меня так по нервам стукнуло?» — вскользь подумал он.
Бывалый капитан хорошо знал, что первое время после ранения люди в боях иногда трусят. Похуже, чем новички. Правда, с ним такого еще ни разу не случалось: ни под Курском, ни на Сандомирском плацдарме; а ведь под Курском он пролил добрых два литра своей крови, а после Сандомира до сих пор у него под ребром перекатывается кусочек чугуна от вражеской мины граммов в тридцать-сорок.
«Проклятый фауст-патронщик! — скрипнул зубами Зуев. — Какого он нагнал на меня мандража!» И зло ухмыльнулся. Но тут же с ужасом вспомнил последнее ранение, визг фауст-патрона, шлепок разрыва и противную тошноту; потом — носилки, покачивание горелых, дымящихся стен какой-то берлинской трущобы, и снова обморок. Затем — шевелящиеся губы бледных медсестер и полная смертельная тишина в долгие дни госпитального бытия. Глухота длилась неделями…
А пулеметы все били, пристрелявшись к местности, на которой комбат Зуев почему-то был один, как в пустыне. Разрывные пули поднимали вокруг него крошево земли, щепок и кирпича, и казалось, их очередями уже была прошита насквозь его гимнастерка. А щеголеватая офицерская фуражка с блестящим козырьком, приобретенная в военторге после выхода из госпиталя, лежала недалеко от комбата, превращенная в безобразнейшую рвань.
«Постой, — вспомнил Зуев, — да ведь война-то уже три месяца тому назад окончилась. Что такое?! Или нас на Японию бросили? А может быть, с бендеровщиной?» И странное дело: он никак не мог вспомнить начала этого боя, его завязки. «Встречный? Или разведка боем?» Даже неясно, какой тут противник и где лежит он сам, Зуев, уткнувшись в щебенку и пыль в липком предсмертном ужасе.
«Чепуха какая…» И Зуеву на миг показалось, что он давно уже смертельно ранен, что, так же как тогда от берлинского фауст-патрона у него отшибло слух, теперь отшибло память.
Читать дальше