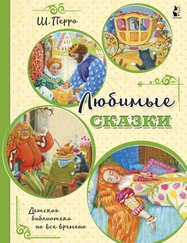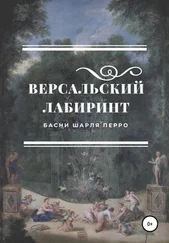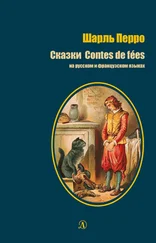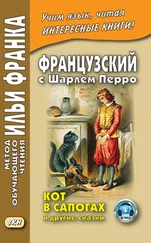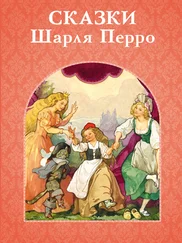В состав сборника „Histoires, ou Contes du Temps Passé“ вошло восемь сказок; таким образом, мы имеем у Перро всего одиннадцать сказок (включая и стихотворные). Как в сюжетном отношении, так и по оформлению сказки Перро представляют довольно разнообразную картину.
Сказки Перро обычно называли „волшебными“. Однако это определение подходит не ко всем сказкам в равной мере. „Гризельда“ является сказкой чисто новеллистического характера, без всяких элементов чудесности; почти лишена чудесного элемента также сказка „Ослиная Кожа“, где только факт появления фей нарушает чисто новеллистический характер повествования; „Потешные желания“ — рассказ, в сущности, анекдотического типа, но с включением в него легендарно-чудесных мотивов. Из числа сказок в прозе почти отсутствует волшебный элемент в сказке „Синяя Борода“, где только несмываемое кровавое пятно напоминает о чудесном; ослаблен и даже почти снят реалистическим толкованием „чудесный“ характер в сказке „Рике-с-хохолком“; в сказке „Красная Шапочка“ волшебный элемент проявляется только в разговорах Шапочки с волком. Таким образом, только сказки „Феи“, „Спящая красавица“, „Золушка“, „Мальчик-с-пальчик“, „Кот в сапогах“ относятся к волшебным сказкам.
Как уже указывалось, Перро заимствовал свой материал по большей части из устной традиции. Довольно точно передавая свои оригиналы в смысле сюжетном, Перро, однако, отнюдь не стремился к точности изложения. Сказки его — не записи фольклорных текстов, а своеобразные литературные произведения, в одних случаях ближе стоящие к фольклору, в других — отходящие от него дальше. Они неоднородны по сложности композиции и по изложению. Наиболее просты по композиции сказки „Феи“, „Красная Шапочка“ и „Потешные желания“, но последняя по изложению отличается от первых более „литературным“ характером. Довольно просты также сказки „Синяя Борода“ и „Кот в сапогах“, значительно сложнее „Золушка“, „Спящая красавица“ и „Мальчик-с-пальчик“; наиболее литературным изложением характеризуется „Рике-с-хохолком“, а также „Гризельда“ и „Ослиная Кожа“.
Перро придает сказкам морализующий характер. Об этом он сам прямо заявляет в предисловии к собранию своих стихотворных сказок (1695). Противопоставляя современные ему сказки античным, Перро говорит: „Я утверждаю даже, что мои рассказы больше заслуживают рассказывания, чем большая часть античных сказок, в особенности такие, как „Матрона эфесская“ и „Психея“, если рассматривать их в отношении морали, что во всех видах рассказов важнее всего и ради чего они и должны бы создаваться“.
Отмечая антиморальный или аморальный характер античных сказок, Перро замечает: „Не таковы сказки, сочиненные нашими предками для своих детей, — они рассказывали их не с таким изяществом и украшениями, какими греки и римляне украсили свои мифы; они всегда весьма заботились о том, чтобы сказки их заключали в себе похвальную и поучительную мораль. Везде в них добродетель вознаграждена и порок наказан. Все они стремятся показать, как выгодно быть честным, терпеливым, рассудительным, трудолюбивым, послушным и какое зло постигает тех, кто не таковы“.
Эта характеристика сказок чрезвычайно интересна. Перро утверждает, что самое важное в сказках — мораль; отсюда его собственные нравоучения, прибавляемые к каждой сказке и иногда, в сущности, притягиваемые за волосы. Особенно выдвигает он нравоучительное значение сказок для детей; и самым сказкам он придает местами специфически „детский“, т. е. приспособленный для детей, характер. Но как раз „нравоучения“ у Перро обычно не подходят для детского возраста, да и в целом он все же обращался со своими сказками не к детской аудитории.
Перро отмечает также большее изящество, большую отделанность античных мифов сравнительно с позднейшими сказками; естественно, что, вводя сказки в „общество“, он стремился придать им более изящный характер.
Деятельность Перро имела, в сущности, двоякое значение. Для литературы введение сказок означало некоторый отход от „высокой“ античной традиции, некоторое „опрощение“ искусства, своего рода „снижение стиля“, демократизацию. Для фольклора же такое введение сказок в аристократическую среду означало значительную деформацию. „Низкий“, „простонародный“ материал поднимался в аристократические салоны и становился средством развлечения; это было своего рода расширение материала, которым пользовалась дворянская литература. Естественно, при этом самый материал деформировался и приобретал новые качества, а не усваивался механически. Сложное происхождение вело к сложной стилистической системе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Шарль Перро Сказки [для взрослых] обложка книги](/books/386227/sharl-perro-skazki-dlya-vzroslyh-cover.webp)
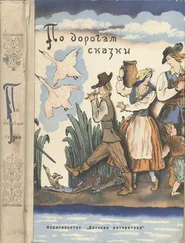
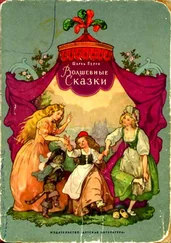

![Шарль Перро - Волшебные сказки Перро [Совр. орф.]](/books/400033/sharl-perro-volshebnye-skazki-perro-sovr-orf-thumb.webp)
![Шарль Перро - Сказка за сказкой [Совр. орфография]](/books/402151/sharl-perro-skazka-za-skazkoj-sovr-orfografiya-thumb.webp)