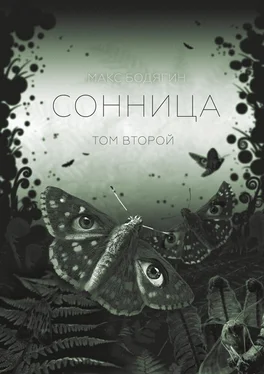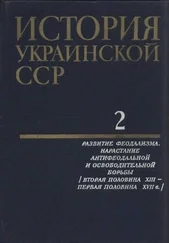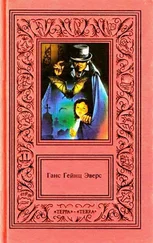И туд я услышал вой. Эта был криг сексуальна васбуждёнава вурдалака, в крави и мясе орущева над разорватым телом жердвы. От этава воя стыла крофь и яица стукались друк об друга в машонке, как два абдолбаных сомца-насорога, запертые в адной малинькай кледке. Изпугано я поднял глоза и увидил, как в распахнутем акне сидид тот свикольней чюваг в растянутай маике и трениках, свесев босые свикольне ноге над галоваме сторушек в платоджьках, сименящех внизу па сваим дилам. Из-за спены чювака лилсе этат вой, рашдавший негу и песдец, подымавшей все валоски на моих худых падрасковых руках. «Прачо он пайот», – пракречал я. Свикольне чюваг пажал плечаме, кабуто я спрасил щтото тупоэ и атветил: «Пралюбофь канешна». Я ахуел и пракречал: «Расве таг можно пралюбофь? Вотаким голасом?!». Свикольне чювак взадхнул, каг Матьтереза, и пасматрел пряма мне в шары и скозал: «О настаяще любви токо таким голасом и можна. А иначе и педь не стоид».
Таг я впирвые услышол голас Ена Гилана и так у меня поивилась ищо одна друшба.
Каг вы ужэ понили, маи нерозумные юные друзиа, со времинем я начил проподать у Ивонова больши, чем ищо где-небуть. У Крома ночались праблемы с тьолочкой из саседней школы для буржуинов, в каторую я нипапал по нидаразумению.
Потавошта мой страшный брателла папросил маму атправить миня в тот канцлагирь, где учился он сам и патавошта он за мной бе пресматревал. Поскоку он был песдец-зюдоист, пресматревал он качиствино: если хоть какая-то хуита косо зырила в маю сторану, братела телепартировался из пустаты и метал эту наглую хуиту черес бидро об дащатый школьней пол. Патом он памог и Крому, када к ниму навалилась талпа злых малалетнех угаловнеков, узнаф, что кромовая хата вечно пустая, патавошта папа-геолаг вечно рыщит в поисках палезнех искапаемых на благо нашей сацеалистическай Родины. Братела очень силно бил всю эту хуиту, а Кром молча смарел и запаменал.
В ту осинь таквышло, шта Кром пирижевал из-за крушениа личнай жызне, а я ни знал об етом, патавошту зависал у Ивонова день за дньом. Чтобы унять дрош в одинокем подросковем хую, внизапно оказавшемся бес слаткех булотчег, Кром пашол нилигально занимацо карате в каком-та падвале, куда ево атвел мой страшный брад. Там он сбевал себе дакрови сваи худые тада кулоки, крича «кия» и приставляя, шта он Брусли, в жолтой пижаме шенкующий в копусту агромных нигерав. Мы видилесь тока в класе, на ибучих уроках, каторыи становилесь всьо хужи и хужи. Учителя задрачивале нам моск скаскаме про светлоэ будущие, кде мы абогнале Омереку по каличеству бабла на каждую жевую и мьортваю душу, а сами апсушдале в каредорах кено про «Интырдевачко» и «Малинькуюверу». В паследней опупее тьолочка па имене Нигода паказывала сисечьке (спасиба ей за эта рашерение нашева сексуальнева кругазора), паэтаму мы смарели ийо рас пицот, хатя чесно кено была проста уныле савецке вата ниачом. Ищо в кено показывали «Лигенду о Нароями», кде ипонцы живо расдвигале гроницы нашых наивнех приставленей о Сексе. Нопример, один ипониц там ибал сваю белую сабаку, что в наших кроях козалось канцом света.
Я пазвал Крома на эту «Нарояму», а он сказал, что иму очень плоха из-за тьолочке, которую злой папек не отпускает пихацо с Кромом в разне атверстия. Такая у нево была любовь. В приступи састродания к другу я атвьол иво к Ивонову, с нослождением ноблюдая, как вытягиваица кромовое ибальце, када видет берлогу Ивонова эзнутри.
Ивонов жыл таг: летам он шобашел на шобашках, вазводя каровнике и протчие колхозне пастройке в заброшенех диревнях па всиму свету, зорабатывая на этам немерянае каличесва бабосав. Он был и каменьщек, и щекатур, и плотнег и главней осеменятор всех акреснех доярак, каторые рады быле за харошую палчонку напаить гарадскова бидалагу в бальших ачках на плюз пиисят деоптрей бедончеком парнова диревенскава малака. Земой на диревенские дали спускалесь глубоке снега, доярке вподале в спячку вместе с притседателеми калхозов, плотившех Иванову денге, паэтому земой он занемался сваей любимай ноукой. Стены в ево конуре были обклеины не абояме, как у чесных савецких граждан, жевущих от получки да палучке в абнимку с толстай жиной и бутылкай вотке. Стены в ево кануре обклеивала жэлтоватая пищая бумага, каторую он пакрывал сваими карявыми письминаме. Адну стену ищо занимале полке с плостинкаме ракенрола и блуза, и горы кник па математеке, ат каторой он схадил с ума. На астальных стенах он песал, притчом дажэ в сартире, чулани и ванней. Пра кухню яуш и ни гаворю.
Читать дальше