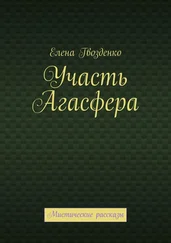Сумерки клубились над городом. Длинные черные волосы он убрал назад, и лишь одна прядка, не таясь, прыгала у него перед глазами. Агасфер смотрел на нее и шагал увереннее, делал шаг шире. Улицы становились все пустыннее, люди мельчали, закрывались ставни. Он видел лишь пещеру, окруженную камнями, где спали дикие кошки, и стремился дать ей плоть. Агасфер, хитрец, красавец, принимавший у себя господ, встречавший в спальне женщин, крался под заходящим солнцем. Он низко опустил лицо, и волосы кольнули грудь – грудь, что встретит клинок. Телеги стояли в стороне, возле врат Агасфера даже не остановили. Пустые глазницы поглядели на него, бестелесного, прочли оставленную печать. Всякий, всякий если не видел ее, то чувствовал. Всякий вздрагивал от повязки Агасфера, дикими глазами смотрел на него, отходя.
– Не гляди на этого прокаженного, – шептались вокруг него. – Заразишься.
Агасфер угрюмо уставился в пустынный сумрак. «Проклятый»…
Мне тяжело давался этот текст, он требовал воскрешать в душе то же унижение, стыд, безнадежность. Лишь при сумерках я смел прикоснуться к Агасферу, ужаленному и отвергнутому. Для меня редкость писать о людях, которые мне не нравятся; Агасфера я ненавидел, но отчего-то не бросал работу. Выходило, что все крутится вокруг ненавидимых мною людей. Я живу с жалким, ничтожным человеком-легендой; пишу об отчаявшемся, безумном духе; мечтаю о гордом, свободном герое… Завел меня в болотистые леса, а сам залез на ветку и хихикает, чудовище. Я не сомневаюсь, ему весело наблюдать за мной, за моими скитаниями из парка в парк. Сам-то он наверняка сбежал, гордый герой: «Я смею воспользоваться свободой, в отличие от тебя, Савва. Ты застрял в себе, в коконах, и тебе нравится это».
Если бы я по-настоящему захотел, то без затруднений бы уехал, оставил университет, бежал бы без денег, в леса, лишь с палаткой и сумкой, наполненной консервами. Я не делаю этого из благоразумия, лишь осторожность – мой кокон. Притом, осторожность самая детская, когда из любопытства можешь высунуться в окно и усесться на подоконник. Во мне нет осторожности буржуазной – никогда не существовало. «Савва, ты премило оправдываешься. Полюбуйся лучше на огни». Зажглись фонари; теперь не увидишь низенького человека в залатанной дубленке, семенящего с чеплашкой к очередному фонарю, чтобы дать свет городу. Они вымерли и воплотились в воздухе. Я дышу и вдыхаю разложение их тел, их умершие мечты, горести, надежды. Они еще не могут почувствовать меня, как и я их, но отчего я могу понять их? Агасфер идет в сумерках, я иду в тиши ночной по улицам. Мне тяжело возвращаться домой, видеть лицо Ивы, такое благочестивое, мягкое. И я знаю, что тело ведет меня к нему, как делает день за днем, избегая неожиданностей.
Что, если я сейчас сверну, пройду три-четыре улицы, перейду дорогу, протиснусь меж частных домиков и выйду к конюшне, за которой находилась станция? Что, если я дождусь поезда и войду в него или попросту прицеплюсь сзади, как делал пару раз? Или, быть может, пройду чуть дальше по рельсам, и, услышав металлический дребезг и дрожь колесниц, аккуратно прилягу в черноту? Придется ли Иве платить, чтобы мое тело перенесли? Станет ли он хоронить меня или оставит в морге, как бездомного? Я могу, сейчас могу узнать это. Только бы заглушить чужой голос. Я способен закрыться на несколько минут и добежать до рельсов, тогда все закончится быстро, а я даже не очнусь. Нет, это слабо, жалко. Я бы мог вернуться к Иве, а на следующий день забрать из университета документы, послать рукопись в издательство и ждать. Проработать несколько месяцев, подкопить денег и уехать в никуда, быть может, в горы. Нет, слишком наивно, не бывает такой сказочности – но я не вижу черноты, только туман. Наверняка, если я заберу документы, то поспешу проститься и с пособиями, тогда нечем будет оплачивать часть квартиры, за которую Ива и так платит второй месяц. Приходим к тому, что я устроюсь на работу, вероятно, в кафе или в ресторан разносчиком. Я продержусь несколько дней, прихрамывая и плача, а потом исчезну посреди рабочего дня и не вернусь. Так оно и будет. Никакой лжи, лишь моя действительная слабость, моя безнадежность.
– Что, так и будешь локти грызть, пока не сдохнешь? – раздалось справа. Из темноты вынырнул человек и прошел мимо меня – в руке он держал телефон.
Я пошел дальше, зашел на детскую площадку и сел на качели. Мои ноги закапывались в землю, желая поскорее сорваться и броситься к Иве, они горели нетерпением. Они хотя бы честны с собой, могут признать, что жаждут покровительства… Нет, разве я лгу себе? Я говорю то, что есть, и никто не смеет обвинять меня в лукавстве, даже я сам. Резко зачесалось все тело, дернулся мизинец. Ветви впереди клонились то в левый, то в правый бок, то стояли прямо в нерешительности. Я не лгу!.. Можно подумать, сознайся я в любви к ослу Иве или в нежелании покидать город, нечто изменится, нечто покинет меня. И то будет враньем! Но что-то же есть? Зачем я цепляюсь? Существует некий уголок, уголок, где таится вязкое лукавство, теплое, приятное, и я, может, даже не замечу его, если стану искать. Оно может прятаться снаружи, хитрое и вертлявое, рассчитывая, что никто его не найдет. Может, в уголках моих пальцев? Или на висках, устроившись на кончиках волос? Стоит начать поиски с очевидного, порой это самое верное.
Читать дальше