– Да поздно теперь… Почему не утром? Надоели мне эти вскрытия… а надо идти…
Произнося эти слова, я старался скрыть главное от Гаратова – чувство охватившей меня радости. Странно, конечно, что я почувствовал ее, но не непонятно. Гаратов пошатнул во мне мою веру в себя, и все мои прошлые мысли толпились в уме моем, как зловещие птицы в бездне, перебивая друг друга и как бы говоря мне: «Мы тебя покинем, и что тогда станется с Кандинским?..» Я знал, что все мое здание, сплетенное из холодных мыслей, рассыплется, как карточный домик, но это будет не ранее того времени, когда его оставит единственный бог – вера в себя. Желание спасти божество свое сделало то, что я смело шел теперь резать мертвое тело, как на бой.
Спустя некоторое время я проходил по длинным коридорам к анатомической камере. В большой комнате со стоящим посреди огромным столом покоилось бледное, с разбросанными руками тело мертвеца и сидели несколько врачей и горбун-фельдшер. При моем появлении врачи поднялись и, окружив меня, начали рассказывать о самоубийце. По их словам, эта девушка, искупительная жертва темперамента тифлисских обывателей, существо очаровательное, неожиданно умершее от болезни или отравы – неизвестно. Делалось также предположение, что ее отравил ее отец, чтобы пресечь ее дальнейший позор.
– Господа, разных историй на этом свете так много, что вам все равно их не пересказать, а что именно происходило вот с той особой, что на столе, не все ли это равно? Вы говорите, она была прекрасна, очень может быть, но мертвая Венера и мертвый Квазимодо – только гниющие, одинаково противные трупы; вы в этом сами сейчас убедитесь, когда отвратительные внутренности выйдут наружу. Так все непрочно на этом свете, что вполне понятен вопрос: «Человек, зачем, зачем живешь ты?!» К делу!..
И я направился к трупу с насмешкой на губах, с ледяным презрением в душе. Охваченный каким-то боевым чувством, я шел резать труп, как на поединок, и неудержимо желал доказать всем, что исключительно я один таю в своем холодном уме мир истин, слишком ужасных, чтобы их могла выдержать чувствительность обыкновенных людей, но несомненных: человек – машина; мир чувств и мыслей, добро и зло, порок и добродетель – иллюзии; демон и ангел – две лиры с различными струнами. Организмы различны, и потому жизнь – хаос, среди которого сливаются в одно беснования, слезы, проклятия, благословения, убийства, блудодеяние – поистине адская музыка. Среди всего потрясающего концерта ужаснее всего ревет миллионноголовый бог – бог страдания. Поистине, убивать – значит спасать, и я в сотый раз прихожу к заключению, что я, Кандинский, невинен.
И вдруг, подойдя к мертвому телу и взглянув на него, я вздрогнул, потом как бы застыл в одном положении и не мог уже отвести от него своих глаз. В нем увидел я что-то страшно знакомое мне, прелестное и очень молодое, но главное, настолько знакомое, что я ужаснулся. И долго я не мог понять, кто же эта передо мной, и вдруг сердце мое болезненно сжалось и в уме пробежало: Джели, Джели!.. Да, передо мной она – неподвижная и холодная, но прекрасная и как бы погруженная в глубокий сладостный сон; глядя на нее, не верилось, что это только бездушный труп; хотелось думать, что она спит.
Обнаженное холодное тело ее сохранило все очертания еще не совсем развившихся женских форм, и от света, бросаемого лампой, оно казалось розоватым и золотистым. Тонкую шею мертвой Джели окручивали красные, как кровь, бусы и падали на ее груди, как тяжелые капли крови. Мне были знакомы они: она их купила после первой ночи моего знакомства с ней, на деньги, которые тогда, в упоении счастья, она решилась от меня взять, и в последующие ночи я часто спрашивал: «К чему это?» – и получался ответ: «Когда ты меня бросишь, я лягу с ними в гроб».
«Странно, непостижимо странно», – проходило в моем уме, и незнакомый мне страх перед загадочной судьбой, выбросившей мой жертву ко мне на стол, точно для того, чтобы и после смерти я мог бы разрезать ее тело, как при жизни – сердце, холодил мою кровь и сковывал мои члены, и я не мог отвести от нее глаз.
Мертвое лицо ее было спокойно, как у спящей, и застывшие полуоткрытые губы, в которых белелась полоска зубов, застыли в вечной улыбке. «С улыбкой она передо мной, и я ее должен резать», – и это меня поражало, и поражали меня также ее голубые, неподвижные глаза с полуоткрытыми веками, что им придавало полупрезрительное выражение, как бы отвечающее на все мое зло одним кротким равнодушным презрением; мне казалось, что я читаю в ее глазах: «Пустяк жизнь, не стоит и сожалеть; я теперь поумнела после смерти; а ты, доктор, глуп: человек есть дух, и все в нем тайна, а что ты думал – вздор. Впрочем, не стесняйся, режь мое тело – снедь червей».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
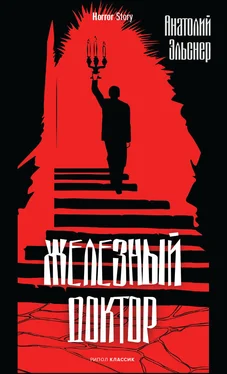



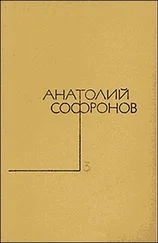


![Анатолий Эльснер - Грозный идол, или Строители ада на Земле [Собрание сочинений. Т. III]](/books/413182/anatolij-elsner-groznyj-idol-ili-stroiteli-ada-n-thumb.webp)

![Анатолий Эльснер - Рыцарь духа [Собрание сочинений. Том II]](/books/415641/anatolij-elsner-rycar-duha-sobranie-sochinenij-thumb.webp)
![Анатолий Эльснер - Железный доктор [Собрание сочинений. Т. I]](/books/415891/anatolij-elsner-zheleznyj-doktor-sobranie-sochinen-thumb.webp)

