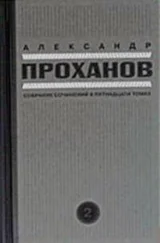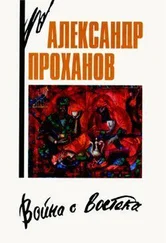Объяснял характер американской «финансовой пирамиды», не выдерживающей бесконечных внешних заимствований. Чертил графики ипотечных кредитований, приближавших американскую экономику к краху. Констатировал исчерпанность рынков, переоценку доллара, аномально высокие цены на нефть, рисуя картину ужасающего коллапса, который неизбежно сметет мировую финансовую систему.
— Что же вы предлагаете делать? Отказаться от банковских вкладов? — допытывался Ромул.
— Не надо класть яйца в одну корзину.
— По вашему совету я уже выбрал десяток корзин.
— Надо выбрать еще.
— Советуете Гонконг?
— Кризис сметет Гонконг.
— Советуете банк Токио?
— Кризис сметет банк Токио.
— Советуете Сингапур?
— Кризис сметет Сингапур.
— Что же вы советуете?
— Рассовываете деньги по карманам.
Это была еврейская шутка, которая на минуту развеселила Ромула.
— Так все-таки, что же делать?
— Кризис минует, а русская нефть останется. Потери неизбежны, но они не смертельны. Вкладывайтесь в недвижимость.
Он стал предлагать услуги по покупке золота в слитках, антиквариата, включая картины мастеров Ренессанса и русские иконы. Советовал приобретать большие участки земли в различных районах мира — саванну в Кении рядом с Национальным парком, территории Сахары с подземными линзами пресной воды, австралийские предгорья с неразведанными запасами олова, и конечно угодья русского Нечерноземья, — будущую продовольственную базу планеты.
— А как обстоят дела у президента Лампадникова? Ведь он держит свои деньги в Европе.
— Артур Игнатович просил у меня совета. Я посоветовал ему рассовать деньги по карманам.
Вторично повторенная еврейская шутка, розовая слизистая оболочка губы, складчатая кожа на шее советника вызвали у Ромула легкую гадливость, которая не укрылась от васильковых глаз коммерсанта.
Еще большую гадливость и близкое к истерике раздражение испытал Ромул, просмотрев телевизионный сюжет, где ненавистный провинциал из Тобольска присутствовал на спуске стратегической лодки. Был окружен ликующими рабочими, славящими его, как будущего царя. Его выступление было похоже на тронную речь.
Всякие сомнения отпали. Налицо был заговор. Лукавый и вероломный Лампадников нарушил священную клятву дружбы. Отказывается уступать ему кремлевское кресло. Заслоняет его от народа лжецарем. Воздвигает самозванца, который должен привлечь к себе народные симпатии и отвратить эти симпатии от него, Духовного Лидера, Виктора Долголетова.
Он не стал звонить Виртуозу и Рему, не стал набрасываться на руководителя телеканала Муравина. Впервые пришла ему в голову, жарко обожгла мысль о верных воинских частях. О преданных офицерах двух подмосковных дивизий. О командирах десантных полков, получавших из его рук награды за Чеченскую войну. Ему стало сладко и жутко. Он представлял шелестящий бег по московскому асфальту юрких «боевых машин пехоты» и тяжкое лязганье танков.
Алексей, еще с вечера, вернувшись в свою просторную квартиру на Тверской, бросился звонить Марине, но так и не дозвонился. Разочарованно упал на кровать, видя, как на лепном потолке плывут водянистые медузы — отражения ночных автомобилей. Ночью ему снилась огромная, висящая в небе лодка, из пламенеющих разрезов клокочут, бурлят, опадают на землю бесчисленные огненные ручьи, и под этими огненными водопадами стоят молчаливые монахи.
Проснулся поздно среди солнца и городского шума. Тверской бульвар за окном был в круглых ярко-зеленых вершинах, краснели на клумбах тюльпаны, из переполненной площади на бульвар переливались машины. Он тут же позвонил Марине:
— Где же ты была? Я вернулся! Так хочу тебя видеть! — упрекая, любя, с нетерпеливой настойчивостью, он звал ее к себе.
— Родной мой, какое счастье, что ты вернулся. Я была на ночных съемках. Не вынимала телефон из сумочки. Ты жив, здоров?
— Приезжай ко мне сейчас, не откладывай. Ты где? Я пришлю машину.
— Я в Останкине. У меня могут быть съемки.
— Скажи начальству, что это царское повеление. Высылаю к тебе машину.
Он позвонил шоферу Андрюше, и тот бодро, молодецким голосом, пообещал:
— Не волнуйтесь, Алексей Федорович. Мигом доставлю, как в сказке про Конька-Горбунка!
Алексей принялся ждать, представляя, как машина ныряет в московских улицах, проскальзывает в узких зазорах, приближается к Останкинской вышке, причаливает у стеклянного входа. Из прозрачного вестибюля, щурясь на солнце, подхватывая летящий по ветру пучок золотых волос, выходит Марина. Усаживается на сиденье, поправляя на коленях свое лучистое, из таинственных тканей платье. Машина мчит ее среди слепящего блеска, прорывается сквозь запруды. Пробирается к высокому, сталинскому дому на Пушкинской площади, где он нетерпеливо расхаживает по комнатам, прислушиваясь к металлическим шелестам лифта. Он чувствовал огромный, в витринах, особняках, небоскребах город как место ее обитания. Словно ясновидец, видел в нем драгоценную светящуюся точку — вел ее по невидимой карте, приближая к себе.
Читать дальше