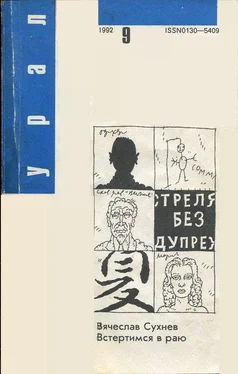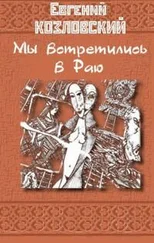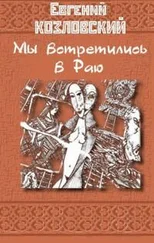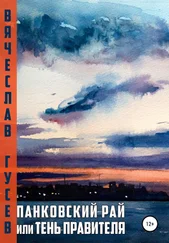Перед дежурством спал Альберт Шемякин. Во сне он видел огромный крест на лысой горе, сожженной зноем, а на кресте — распятого. Задыхаясь и оступаясь на камнях, Шемякин медленно поднимался к изножию креста. Все ближе и ближе распятие, вот уж и тень деревянных крыл пала на Шемякина. Он поднял взор и проснулся от ужаса, ибо в распятом без труда узнал себя. Не зажигая света, Шемякин некоторое время бесцельно слонялся по молчащей пустой квартире, а потом вышел на балкон, ежась от ночной свежести. Далеко на горизонте поднимались в призрачное небо два белых цилиндра. «На горе Арарат растет красный виноград», — забормотал Шемякин детскую присказку — логопед когда-то заставлял повторять ее до одурения, чтобы прошла картавость. А при чем тут Арарат, подумал Шемякин. И вспомнил о Марии.
О Марии… Горело одинокое окно на семнадцатом этаже — почти напротив темных окон Зотова. Мария курила на кухне, гоняя ладошкой дым. Открыла было фрамугу — и сразу же сладковатая вонь проникла с улицы. Лучше уж пусть табаком пахнет, подумала Мария, захлопывая окно.
После встречи с газетчиками она поехала к дяде Сергею. И пока рассказывала о своих новостях, незаметно уснула — прямо в кресле возле маминой кровати. Очнулась от тишины и тревоги. Мать спала покойно, ночник бросал слабый свет на ее запавший рот. Мария сбросила плед, которым ее прикрыли, и склонилась над матерью. Лишь уловив тихое и медленное дыхание, она отправилась на кухню и дала немножко воли слезам. А потом ужаснулась: полночь, а она не звонила Рыбникову. К счастью, первый заместитель главного редактора «Вестника» был еще на месте. Он успокоил: статья стоит в номере, начали печатать тираж. Утром Мария может заехать в концерн, у охранника оставят конверт с двумя экземплярами еженедельника.
Она повесила трубку и подумала: чем кончится для Шемякина, для нее, для всех ребят, причастных к статье, этот прорвавшийся на свет крик об опасности? «Космоатом» не любит, когда из его бронированных дверей выносят секреты.
Мария не заметила, как вошел дядя — мятый со сна, в старой пижаме, лопнувшей под мышками. Он сел напротив, растер лицо руками:
— Ты бы бросала курить, а? И так неважно выглядишь… Да еще такая дорога… Тебе нужно больше отдыхать! А то сорвалась, как будто тут…
— Дядя! — вспыхнула Мария. — Сколько можно об одном и том же! Ты становишься несносным, как баба Сима.
Они улыбнулись, вспомнив бабу Симу из угловой квартиры, которая ворчала и бранилась круглые сутки.
— Видишь ли, — грустно сказал Сергей Иванович, — мне стыдно, что я, никому не нужный старик… Сам ничего не могу и у тебя гирей на ногах… Из-за нас с матерью просидишь, боюсь, в девках до седых волос.
— Давай лучше чаю попьем, — сказала Мария. — Ты же знаешь, я не могу выйти замуж, пока не кончится контракт. Не заводи больше таких разговоров!
— Ладно, — примирительно сказал Сергей Иванович. — Больше не буду. А чай-то — настоящий «липтон»! Неужели у вас еще можно его купить? Не обижайся, но мне хочется, чтоб у тебя все было хорошо, все как у нормальных людей.
— Вылитая баба Сима, — вздохнула Мария. — Где они, нормальные люди? Разве только на каком-нибудь острове… Кстати, мне в Сибири работу предлагают после контракта. Вас с собой заберу.
— Куда? — прищурился Сергей Иванович. — И зачем… Старых людей с места трогать нельзя. Матери надо операцию делать. А в Сибири твоей и врачей-то нет.
— Ох, дядя Сережа, — поднялась за чашками Мария. — Ты до сих пор живешь… словно в период становления рабочего движения. Или при декабристах, когда они Герцена будили! Хочу, чтобы ты к мысли о переезде привык, при всем своем упрямстве. Не все ли тебе равно, где машины сторожить?
— Мне уже сегодня говорили, что из времени выпал, — с обидой сказал Сергей Иванович. — Не помню кто… Да, Зотов и говорил, Константин Петрович, есть тут у нас такой молодой конформист.
— Я его видела, — сказала Мария. — Он просил передать тебе, что был не прав. А в чем, не сказал.
— В том и не прав! И он не прав, и ты.
Рыбников говорил с Марией по телефону уже на ходу, бросая в кейс свежие экземпляры «Вестника». А вскоре он сидел в большом строгом кабинете с зашторенными окнами — в старом особняке на Патриарших прудах, чудом уцелевшем после реконструкции столицы в конце двадцатого века. Развалившись в древнем кожаном кресле, с трудом сдерживая зевоту, Николай Павлович прихлебывал из саксонской чашки крепчайший кофе и наблюдал за Стариком, который внимательно читал статью в «Вестнике».
Читать дальше