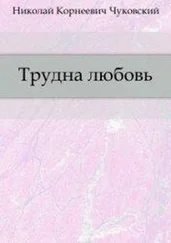Скарб размышлений был с остаточным комфортным ощущением, как стоптанные тапочки. Это отвлекало, и он смотрел на остроклювых чернокрылых птиц, метавшихся перед обрывом. Они не подлетали близко, метрах в десяти-пятнадцати от берега свертывали крылья под косым углом, но тут же резко взмахивали ими, будто кланяясь, и разворачивались. Фрегаты это, или нет? Fregata magnificens вроде. Птицы перелетные, хотя неясно, как они тут оказались. Было впечатление, что они о чем-то спорят, вторя нестареющей максиме: чужие страны становятся нам иногда родными. Нет, дело даже и не в том, о чем ты думаешь, когда ты все же думаешь, а в том – зачем. Плеск разбивавшихся о камни волн и перекрикивание птичьей стаи вводили в отвлеченную пространность мысли, направить их в желаемую сторону что-то все никак не удавалось… Был уже десятый час. Думая, что предпринять, он вновь прошелся по карнизу. В легких полотняных джинсах, в которые он сразу же переоделся, чтобы быть и в несколько цивильном виде и не шибко выделяться, было все равно и тесно и невыносимо жарко, хотелось скинуть их, спуститься вниз и окунуться, как если б там была река. Показывая прелесть своих ног, здесь все ходили в шортах и в таких зауженных у модниц – как бы галифе в цветочек. Природно-смуглым цветом кожи он не отличался, поэтому в своем отглаженном костюме чувствовал себя инспектором как на большом нудистском пляже; к тому же, как и эти птицы, говорил на непонятном языке. Уж такова была реальность. С Машей они жили вместе девять лет. И дома жизнь была реальной, то есть отражалась так в сознании постольку, поскольку каждый в ней участвовал и приносил какую-либо пользу. Стоило остаться им наедине, как они тут же забывали обо всем, что находилось там , и оболочкой того состояния уже не жили. В том хосписе, где, совмещая это с частной практикой, вкалывала на полставки Маша, жизнь была исполнена страданием и болью угасания, а у него – утратой веры в себя тех людей, которых он по настоятельности Маши консультировал. Она считала, что он может и обязан помогать другим, ибо испытал все то же на самом себе. Но это было там . Когда же они находились рядом, то это состояние вербально можно было бы определить и как отсутствие земного хода времени. Да, они его не замечали и, понимая это, более всего боялись оторваться от действительности, утратить «рассудительность и бдительность», словами Маши. Ну, то есть каждому хотелось верить, что эта тонкая вневременная связь не застилает им глаза. И оттого что оба рассуждали так, со временем в их общем мире тоже стали обнажаться свои рифы и ухабы. В вялотекущем настоящем у каждого зияли разные прорехи от совокупности незавершенных в прошлом дел. И чем полнее было единение меж ними, острее ощущалось собственное бытие, тем глубже было осознание любых просчетов и долгов. Так что связанное с этим восприятие, возможно, было движущим мотивом и краеугольным камнем всей поездки. И как бы не было им с Машей сладко, но чувство внутренней причастности тому, чего, казалось бы, навек ушло, переместившись из России на другой конец материка, не покидало. Чего касается практических задач, то он как сильно выраженный интроверт с глубокой недоверчивостью относился к методам дедукции, предпочитая полагаться более на интуицию или, проще говоря, на тот же ум, преобразуемый содружеством нейронов в опыт. Надежд на то, что он, используя одну эту открытку, пойдет по следу и разыщет мать с ребенком, было мало.
Поставив в этом пункте размышлений знак вопроса с двумя точками, он развернулся и по дорожке, уводившей от балясин у обрыва, чтобы сократить обратный путь, вошел под сень оливковых деревьев. Рощица была такой же, что и на открытке. До этого, когда он шел в обход ее, казалось, что маслины стоят порознь, купами. Но, оказавшись среди них теперь и пробираясь наугад, он понял, что, потеряв едва приметную в щебенистой траве тропу, здесь с непривычки можно заблудиться. Врезаясь в слой песчаника уродливо желобчатыми комлями, раскидистыми ветвями с бахромчатой листвой деревья вширь перекрывали небо, они и укрывали своей тенью и сбивали с направления. Автостоянка была дальше и правее. Шоссе, которым он приехал, здесь заканчивалось, делало петлю у рощицы олив и возвращалось стороной от побережья к югу, вдоль протяженного, хребтами запряженных буйволов вдаль уходившего нагорья. Другая, более живая магистраль от города шла юго-западнее – в Барселону, через окружной центр Альт-Эмпорда – Фигерас. Две переснятых дома карты с испанскими и русскими топонимами, которые он взял в дорогу, не ограничиваясь тем, что было у него в смартфоне, лежали в бардачке «Сеата». Но карты не давали никакого представления о людях. Туристы на автомобилях, что, переехав через Пиренеи, катились в отпуск на горячие пески Валенсии и ради любопытства, сделав крюк, заскакивали в этот именитый городок, при выезде – или по ошибке или чтоб полюбоваться видом, должно быть, часто заворачивали к мысу по боковой, лишенной указателей дороге. Созданный как походя рукой природы, которая, исполнив свою миссию, тут же поспешила дальше, этот уголок должен был бы охраняться властью или местными экологами, иначе кто-нибудь уже открыл бы тут доходный ресторан… Держась того же направления и предполагая отыскать кого-нибудь из местных жителей, он повернул поближе к берегу, правее того места, где припарковал автомобиль. Вившаяся между комлями тропинка потерялась под ногами и метров через пятьдесят оливковая рощица, лишив навеса под палящим солнцем, кончилась. На огороженной площадке перед конической колонной маяка был светлый домик, крытый по щипцу как раскаленной, в цвет моркови, черепицей. При виде той он сразу ощутил, что в горле пересохло. Пришлось утешить себя тем, что в номере не слишком звездного отеля, где он остановился, есть про запас бутылка красного вина, которую он сунул утром в холодильник. Выйдя на дорожку, шедшую по краю рощицы, возле маяка он заприметил мужскую смуглую фигуру. Расчет на то, что он, не зная языка, чего-то разузнает, был неоправданно завышен. И все-таки хотелось убедиться кое в чем.
Читать дальше