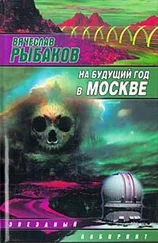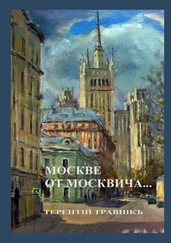— Да, да, — покивал Самиев. — Извините, вынужден покинуть вас. Дела… Желаю благополучно долететь.
И пошел к двери, переваливаясь, словно откормленная утка.
— Я бы на его месте не спешил, — сказал Федосеев. — Если торопится к своим головорезам — то опоздал. Их уже разоружают.
— Кто разоружает? — резко спросил премьер. — И по чьему приказу?
— По приказу командующего воздушно-десантной дивизии генерал-майора Кулика, — сказал Федосеев. — Ты его должен помнить, Карим, он из нашего бывшего округа. Видишь, опять сослуживцы вместе собираются. Только Бахарева не хватает. Он когда-то танковым полком командовал, а теперь на армии сидит. Ты чем-то недоволен, Карим, дорогой?
— Но это же… оккупация! — отвернулся к окну премьер.
— Странно слышать такие слова. Странно и обидно! В твоей стране должна быть одна армия — правительственная. А если каждый шишкарь начнет банду заводить — бардака не оберешься. И крови — тоже.
— Даже генерал Ткачев, — продолжал премьер, — при всех особенностях его характера… При всем том, что он вытворяет в Закавказье! Даже Ткачев не решился на оккупацию.
— Еще бы! За него Шаону оккупируют бандиты разлюбезного дружка, Самиева… Гешефты ведь вместе проворачивают!
— И все же, формирования Самиева — внутреннее дело Шаоны. Народ сам разберется…
— Жди! — отмахнулся генерал. — Пока народ разберется — Самиев тебе голову свернет.
— Но существуют, Роман Ильич, цивилизованные нормы, — повернулся премьер. — Нормы отношений между государствами! Их надо хотя бы внешне соблюдать. Может быть, Россия не считает нас государством?
— Нормы соблюдать необходимо, — согласился Федосеев. — Мы-то их и соблюдаем: помогаем союзнику, то есть, тебе, избавиться от пятой колонны. Или ты думал, что великая держава испугается Самиева, этого мешка с дерьмом?
— Мне придется уйти в отставку, — глухо сказал премьер. — Республика ждала переговоров с Россией, надеялась на помощь братьев. Спасибо, помогли!
— Не пожалеешь потом, премьер? — спросил генерал. — В отставку уйти несложно, Каримушка. И тебе, и мне. Сдал печать — и вся недолга. Однако сейчас ты вождь нации, а после отставки — ноль без палочки. Тебе Самиев лично горло вырвет. Уж лучше тогда не в отставку, а в горы, к партизанам. Ты что-то сказал?
— Хороший ситуационный анализ, Роман Ильич… Вы очень точно сформулировали последствия моей отставки.
— А чего там, и компьютера не надо, — согласился генерал. — Прошу, как старого друга, никакой отставки! На этот счет генерал Кулик указания получил. Всемерно тебя поддержит. И ты будешь премьером. Даже мертвым. По своим обязательствам настоящий мужчина должен платить, Карим.
— Это угроза, Роман Ильич?
— Считай, что пожелания моего руководства, — отрубил Федосеев. — Таким образом.
Премьер уселся за свой стол, бесцельно полистал бумаги, потом нажал звонок.
— Проводи гостей, — сказал он гвардейцу в дверях. — Господа отбывают.
Они вышли на улицу, в горячий полдень, пропитанный выхлопами БМП и ароматом роз, которые, невзирая на войну, цвели себе в небольшом скверике перед Советом Министров. Сутулый старик в выгоревшем бешмете и горской шапочке обрезал с кустов засохшие побеги. Между клумбами он уже начертил мотыгой поливные бороздки и приготовил два ведра воды.
— С ума сошел, — пробормотал Федосеев. — В городе воды нет, а он розы поливает.
Старик, видно, догадался, что речь идет о цветах:
— Хороший сорт, уважаемый. Жалко…
— А какой это сорт? — спросил генерал.
— Ди Вельт. Издалека привозили.
И старик снова склонился над кустами крупных, оранжево-красных, цветов.
У сквера затормозил пятнистый уазик, подбежал молоденький капитан, картинно козырнул:
— Прибыл в ваше распоряжение, товарищ генерал-лейтенант! Вертолет ждет.
— А не опасно — на вертолете? — спросил Федосеев.
— Не опасно, товарищ генерал-лейтенант! — заулыбался капитан. — Воздух теперь наш.
— Слава Богу, — сказал Федосеев и уже в машине спросил Седлецкого — Как там дед цветы называл?
— Ди Вельт, — ответил Седлецкий. — По-немецки, значит, мир…
— Скажи ты!
Они поехали по городу, похожему на заброшенную археологическую площадку с разрушенными раскопками. Кроме военных грузовиков в пятнах камуфляжа, по разбитым и засыпанным щебнем улицам не двигалось больше ничего. Седлецкий знал, что в этом городе уже не имели цены ни работа, ни деньги. Валютой стала мука. Стакан муки — обойма. Жизнь человеческая, таким образом, оценивалась в горсть муки.
Читать дальше