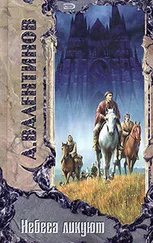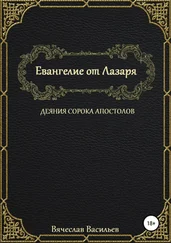— Не понимаю, к Лазарю Черному это какое имеет отношение? — перебил Кауров старика.
— Сейчас поймешь, — заверил его Тарасов. — Хутор наш вот как возник. Давным-давно сюда раскольники жить пришли. Скит поставили, чтобы веру христианскую незамутненную никто соблюдать не мешал. Но однажды пришел отряд в эти края. Окружили солдаты скит, велели раскольникам выходить подобру-поздорову, в никонианскую веру перекрещиваться — там уж и священник из обновленцев их дожидался. А кто не захочет трехперстия принять, тех солдаты в Сибирь на каторгу увести грозились. Но народ, что в скиту засел, крепкой веры был. Изнутря закрылись они да и подожгли себя — предпочли смерть отступничеству от веры дедов и прадедов. Сидят в дыму, молитвы поют. А потом великое чудо случилось. Ударила молния с неба. Прямо священника-обновленца поразила. Солдаты разбежались, страхом объятые. А раскольники все задохнулись. Окромя одного — по имени Тарас. Он возле дверей стоял, дышал воздухом через щель и погибель священника видел. Тарас — предок мой. В честь него хутор потом и прозвали. А на месте сгоревшего скита церковь срубили, и стал с тех пор сюда стекаться народ на поклонение мученикам со всей Руси. Некоторые в чудесном месте жить оставались. Нас сызмальства учили, что Илья-пророк — первый святой и заступник, а когда гром гремит и молния полыхает, — это, значит, он по небу на колеснице едет и поражает оттуда всякую скверну, но особливо порченых женщин. Вот через ту примету и получил я в 1922 году душевную рану. Мне шесть лет тогда было. Мы с сестрой Дуняшкой в лес по землянику пошли. Когда возвращались, дождь начался. Прибегаем к хате, а мама на базу лежит — на лице ни кровиночки, телок ей в ноги тычется. Молния попала в нее. С той поры будто сглазили нашу семью. Начал я замечать, что отец и бабушка с дедушкой стали людей сторониться. Да и с нами детишки соседские не играли больше. Решили на хуторе, что моя мама порченой была — распутной, и за то покарал ее Господь. И вот с этим позором я вырос. Будто червяк сердце мне источил. Разве мог ошибиться тот, кто с неба молнии мечет в нас за наши грехи? Но однажды отец рассказал мне про Лазаря Черного.
Только при этих словах Кауров перестал смотреть на старика как на ненормального.
— Это было на следующий год после маминой смерти, — продолжал Тарасов. — В ту пору Лазарь гремел тут вовсю. Как-то прибежали они вдвоем с Евхимом Буяновым — их в Островской в сарае едва не спалили. Тогда еще девку Лазорькину заложницей брали, да принародно раздели перед тем сараем (услышав это, Кауров аж подался вперед). Тут, на другом конце хутора, буяновские сродственники жили. Евхим к ним пошел. А Лазарь занемог и у нас в хате на печи лежал. Вдруг бежит соседский пацан, кричит: «Красные в хуторе. Евхиму голову срубили, зараз к вам за Лазорькой придут». Отец спрятал Лазаря в стогу сена. Едва красные зашли на порог, грянул гром, и молния вдарила в тот самый стог. Вспыхнул он. Отец вспоминал потом: «Стою ни жив ни мертв, жду, когда Лазарь из стога выскочит, а его все нет». Так и ушли красноармейцы ни с чем. Отец давай сгоревший стог ворошить — нету Лазаря! Что за чертовщина! А тут и он живехонек из кухни выходит — черный весь! Оказалось, не стал он в стогу сидеть, на крышу кухни залез, в трубу печную протиснулся. Я сам обыск хорошо помню. Но о том, что Лазорька от молнии убежал, отец только через много лет рассказал. И вот тогда я духом воспрял. Выходит, обманул Лазарь смерть. Выходит, слепая она, небесная кара, и даже Илья-пророк ошибиться может, раз по Лазарю угораздило его промахнуться. А значит, и маму мою могло по ошибке грозой убить, а вовсе не за грехи, которые приписывала ей молва. Будто камень упал с души, благодаря Лазарю Черному.
Старик смолк. Потом перегнулся через стол и стал внимательно изучать лицо Каурова.
— Да ты никак Черному родней будешь, — объявил он.
Геннадий вздрогнул.
— Почему вы так решили?
— В лице что-то есть. У меня глаз наметанный. Так бывает: одни лица уходят из памяти, а другие всю жизнь перед глазами стоят. Лазарь стертый был для меня, а как ты появился, будто слетела пелена, его лицо укрывавшая. Дай-ка, попробую его по памяти нарисовать.
Старик вырвал из тетрадки двойной лист и принялся водить карандашом по бумаге. Начал с прически. Грифель быстро плясал по листку. Вслед за волосами — всклокоченной копной черных волос — старик перешел к глазам. Теперь он замедлил темп, стал поглядывать на Каурова. Но рисовал не его. Когда портрет был закончен, на Геннадия смотрел незнакомый человек. Возможно, он имел отдаленное сходство с дедом Акимом, благодаря носу с горбинкой. Но у деда горбинка была едва заметна, а у человека на портрете нос был изломан, как клюв у орла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу