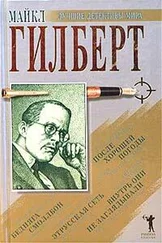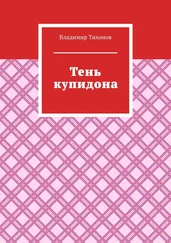— И потому вас отвезли на машине?
— Да.
— Так. — Антонио Риссо размышлял, поигрывая серебряным ножичком, вертя его в руке, подставляя свету, поглаживая крепкими смуглыми пальцами. — Что же с вами было?
Доктор юриспруденции Тоскафунди, молчавший до сих пор, заерзав на стуле, сказал:
— Полагаю этот вопрос недопустимым, синьор прокурор. Он не может иметь никакой связи с рассматриваемым случаем.
— Если обвиняемый откажется отвечать, это будет зафиксировано в протоколе. Мы спокойно выясним это из других источников.
— Да, Господи, отвечу я вам, — недовольно сказал Брук. У меня был обморок, вот и все.
— У вас раньше бывали обмороки? Или это впервые?
— Не впервые.
Риссо сделал паузу, чтобы стенограф успел все записать, и сказал:
— Вернемся к среде. Куда вы ездили?
— В Волатерру. В поместье между Волатеррой и Монтескадо.
— В поместье профессора Бронзини?
— Да.
— По его приглашению?
— Конечно.
— Когда вы возвращались во Флоренцию, было уже темно?
— Нет. Смеркалось, но темно еще не было.
— Вы заезжаете в гараж с ходу или сдаете задом?
— Обычно задним ходом.
— И в этом случае вы поступили так же?
— Разумеется.
— Сейчас вы поймете, почему я задаю вам эти вопросы, синьор Брук. Въезжая в сумерки в гараж передком, вы могли бы разбить противотуманную фару и не заметить этого, не так ли?
— Мог, но это крайне неправдоподобно.
— Согласен. Поскольку вы сдавали в гараж задним ходом, разбить ее в этом случае вы не могли.
— Нет.
— Так когда же, как вы полагаете, она разбилась?
— Понятия не имею.
— Вы проверяли ее в четверг?
— Конечно, нет.
— Машина стоит в незапертом гараже между вашим домом и домом синьоры Колли.
— Я ничего не заметил. Она, видимо, да.
— Да, она действительно заметила, синьор Брук. Когда в пятницу вечером около шести вывела пса на прогулку. — Он помолчал, ожидая, что Брук вмешается, но тот тоже молчал. — Она всегда восхищалась, в каком дивном состоянии вы поддерживаете машину. Будь фара разбита — не треснувшая, а помята и разбита, как сейчас, — уверяет, она бы уж это точно заметила.
— Теперь все ясно.
Риссо недоуменно переспросил:
— Что ясно, синьор Брук?
— Фару кто-то разбил уже после шести. Дети Колли вечно играют посреди улицы. Я уже жаловался их матери, но, разумеется, она не может запереть их на весь день дома.
— В пятницу вечером дети Колли были в кино.
— Я не говорил, что это именно они. Там носится уйма детей.
— Вам не кажется странным, что никто из ваших соседей в тот вечер ничего не видел и не слышал? Но пойдем дальше. Вы утверждаете, что в тот вечер отправились на встречу с кем-то, кто не пришел. И вы его подождали, потом развернулись и поехали домой.
— Да.
— Вы можете сообщить, с кем намечалась встреча?
Брук, подумав, ответил:
— Полагаю, он здесь ни при чем.
— Значит, вы отказываетесь дать нам такую информацию?
Еще немного подумав, Брук сказал:
— С такой формулировкой я не согласен. Я не отказываюсь, но считаю, что это не относится к делу.
— Решать, относится информация к делу или нет, предоставьте нам.
— Пожалуйста, — сказал Брук. — Я должен был встретиться с Мило Зеччи.
Если он ожидал какой-то реакции, то был разочарован. Похоже, прокурора это вовсе не удивило.
Длинная кавалькада машин с черными атласными накладками на фарах, с черными бантами на ручках и с черными кокардами на «дворниках» тянулась по Виа дель Арте делла Лана, направляясь к собору Сан Микеле.
Капитан Комбер пришел заранее и стоял у входа в собор. Он насчитал пятнадцать машин. Никто не знает всех своих родственников, пока не умрет. В молодости похороны — тоска, в зрелом возрасте — шутка, но когда человек стареет, каждые похороны становятся репетицией его собственных. Тем временем подъехало еще полдюжины машин.
Капитан не учел, что семейство Зеччи не было изолированной ячейкой из трех человек, а входило в сложный организм, многолетний матриархат, вросший своими корнями глубоко в почву Кампании. Преобладали тут женщины — гордые, самоуверенные и величественные, все как одна в траурных туалетах, переживших уже десятки таких событий. Сопровождали их расстроенные загорелые мужья и стайки чисто вымытых детей. Этот день принадлежал женщинам.
В первой машине сидели Аннунциата с Тиной, только вдвоем. С момента отъезда из дому Аннунциата не закрывала рта, и этот поток слов был настолько невероятен, что Тина начинала беспокоиться. Молчание матери или ее слезы были бы ей милее, чем это горячечное настроение.
Читать дальше
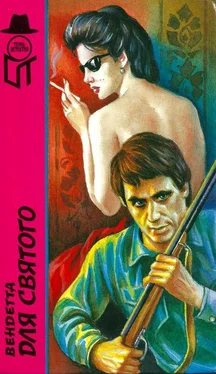
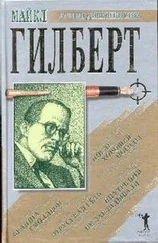
![Лесли Чартерис - Пикник на Тенерифе [Пикник на Тенерифе. Король нищих. Святой в Голливуде. Бешеные деньги. Шантаж. Земля обетованная. Принцип Монте-Карло]](/books/87044/lesli-charteris-piknik-na-tenerife-piknik-na-tenerife-korol-nishhih-svyatoj-v-gollivude-thumb.webp)