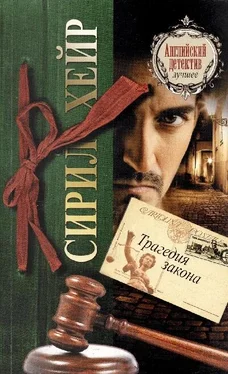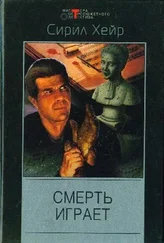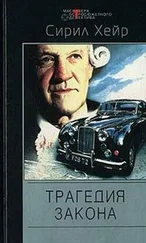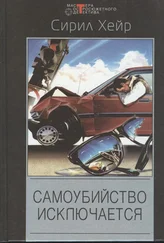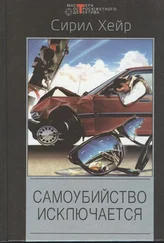— Теперь обратимся, — сказал он, — к показаниям мистера Гритхема. Он, как вы помните, сообщил, что встретил обвиняемого возле его кузницы в понедельник накануне трагедии и…
— Во вторник, — вдруг перебил его Барбер. — В понедельник мистер Родуэлл видел нож. А свидетельство мистера Гритхема относится ко вторнику, следующему дню.
— Благодарю, ваша светлость, — сказал Петтигрю, уязвленный его вторжением. — Господа присяжные, вы помните эпизод, о котором я говорю. Понедельник или вторник — значения не имеет, но мистер Гритхем…
— Думаю, это имеет значение, — снова перебил его Барбер. — В столь серьезном деле важно быть точным во всем. В моих записях ясно значится: вторник. Сэр Генри, вы помните, когда это было?
Сэр Генри, к глубокому сожалению, не помнил.
— В моих заметках сказано: вторник, — настойчиво повторил Брадобрей. — Разумеется, я могу ошибаться, но…
В этот момент встал сам мистер Гритхем, сидевший где-то в темной глубине зала, и попытался внести ясность, но был бесцеремонно одернут, ему приказали молчать.
— Милорд, в понедельник ли, во вторник… — начал было Петтигрю.
— Думаю, этот момент следует уточнить, раз уж возникли разногласия. Мистер стенографист, будьте любезны, найдите нужное место в показаниях мистера Гритхема и зачитайте его слова точно.
Пока стенографист пытался справиться с кучей своих бумаг, прежде чем после нескольких неудачных попыток отыскать наконец нужный пассаж, в зале царила напряженная тишина.
— «Это было то ли в понедельник, то ли во вторник, я не уверен, но думаю, что во вторник», — прочел он тоненьким голоском с акцентом кокни.
— Ага! «Думаю, что во вторник». Благодарю вас, мистер стенографист. Продолжайте, мистер Петтигрю.
Все это заняло не более двух-трех минут, но их оказалось фатально достаточно, чтобы нарушить цепь рассуждений Петтигрю. Хуже того, порвалась невидимая нить, связывавшая оратора со слушателями. Отношения между ним и аудиторией, которые он с таким старанием выстраивал, рухнули, нужно было начинать все сначала. Это не так много значило бы, не нервничай Петтигрю столь сильно и не опасайся сделать неверный шаг на трудной тропе, по которой следовал. То, что замечание судьи было таким ненужным и несущественным, лишь добавляло раздражения. А тот факт, что исходило оно не от кого-нибудь, а именно от Барбера, оскорбляло до глубины души. Петтигрю на его веку доводилось выступать перед судьями, которые говорили без умолку. Слова неудержимо вылетали из них, как мыльные пузыри, независимо от того, шла ли речь о защите человека, которому грозила смертная казнь, или о менее значительных преступлениях. Он научился относиться к этому терпимо и невозмутимо сносить бремя, которое наряду с ним несли все остальные. Но Папа Уильям обычно был молчаливым судьей. На протяжении всего этого процесса он высказывался крайне редко и почти всегда по делу. Нынешнее бессмысленное и неуместное вторжение было скорее всего сделано специально, чтобы выбить Петтигрю из колеи.
Петтигрю, возобновивший свою речь после того, как вопрос с показаниями мистера Гритхема уточнили, был уже другим, сбитым с толку Петтигрю. А сбитый с толку человек едва ли способен произнести убедительную речь. Позволив один раз поймать себя на маленькой неточности, он стал преувеличенно, нервозно осторожен в отношении мельчайших деталей и вследствие этого, естественно, начал допускать другие, столь же незначительные ошибки, каждую из которых судья угрюмо исправлял. Петтигрю ощущал, как жюри постепенно утрачивает интерес. С каждой уходящей минутой присяжные все дальше ускользали от него. Если бы он с самого начала пустил в ход такой же мощный орган красноречия, как Баббингтон, вероятно, мог бы еще снова завладеть их вниманием, обрушив на них водопад бурных фраз. Но он не мог этого сделать. Он мог воздействовать на них лишь тем, что было в его распоряжении, — искренностью, простотой речи, плотной вязью аргументов. Он сделал все, что было в его силах, но, закончив речь, опустился на стул обескураженный, с отвратительным ощущением собственной несостоятельности.
Заключительная речь Барбера была исполнена виртуозно. Петтигрю, который читал и перечитывал ее впоследствии, выискивая основания для апелляции, вынужден был признать, что с процессуальной точки зрения она была безупречна. Хотя никто из тех, кто слушал ее, не сомневался: подспудно эта речь была не чем иным, как рекомендацией присяжным признать подсудимого виновным. Но рекомендация эта была транслирована им в основном средствами, которые невозможно обнаружить в стенографическом отчете: едва заметными модуляциями голоса, многозначительными паузами и выразительными взглядами.
Читать дальше