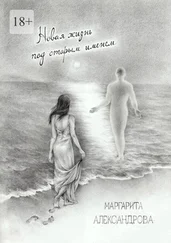— Чего тебе надобно, паря? — хрипло спросил он.
— Я ранен, истекаю кровью… Помогите…— силы оставили Дмитрия Павловича, и он ткнулся лицом в ноги старика.
Очнулся Угрюмов на полу. Он лежал на старом, сшитом из лоскутов одеяле.
— Тяжел ты, однако, паря. Еле заволок в избу,— сказал старик и, подняв над головой фитиль, одернул на раненом рубаху.— Эка, тебя садануло,— хмыкнул он.— Погоди, зажгу свечу и перевяжу рану.
— У меня кость задета, или пуля в ребрах сидит, вздохнуть больно,— пожаловался Угрюмов.
Старик, шаркая валенками по доскам пола, покопался в углу, за божницей, и приладил на табурете огрызок тускло горевшей свечи.
Осторожно коснулся краев раны и, нащупав пальцами пулю, чуть нажал. Угрюмов застонал и прикусил губу.
— Вот она, где скрывается, подлая,— пробормотал старик.— Вынуть надобно, а то закиснет, помрешь от горючей лихоманки. У меня от покойницы-жены спица вязальная осталась. Дай-кось я ей пулю поддену.
Старик достал спицу и, прокалив ее в пламени свечи, склонился над раненым.
Нестерпимая жгучая боль молнией полыхнула в глазах Дмитрия Павловича, и он потерял сознание.
Пришел он в себя от кисловатого запаха самогона, бьющего в нос.
— Глотни разок, полегшает,— шепнул старик, подсунув к его губам стакан с мутной жидкостью.
Угрюмов глотнул и, судорожно икая, затряс головой. Самогон был теплым и крепким.
— Погляди на свою смерть.
Старик показал ему окровавленный острый кусочек.
— Как зовут тебя, дедушка,— с теплотой в голосе спросил Угрюмов.
— Тимохой в детстве кликали,— усмехнулся старик.— А ты видать, паря, из благородного сословия, из офицерьев.
Угрюмов кивнул и, сняв наручные часы, протянул их старику:
— Возьми, дедушка, это хорошие швейцарские часы. Больше у меня ничего нет.
— На что они мне сдались? Побудку мне петух соседский прокукарекает.
Тимоха, кряхтя и охая, взбирался на лежанку, бормоча:
— Ревматизм замучил. Ох, проклятущий. Уж который год кости ломит.
Дмитрий Павлович, ослабевший от потери крови, проснулся поздно. Часы показывали полдень. Тимохи в избе не было.
«Дождусь ночи, уйду»,— подумал Угрюмов.
От голода кружилась голова и подташнивало.
Через некоторое время, опираясь на суковатую палку, пришел Тимоха.
— На, выпей молочка от соседской буренки,— протянул он Угрюмову резной деревянный ковшик.
Припав иссушенными губами к краю ковшика, Дмитрий Павлович с удовольствием пил густое, пахнущее травой и медом молоко. Пил долго, пока в изнеможении не откинулся на одеяло.
— Что слышно в городе?
— А слышно то, что говорят,— откликнулся Тимоха,— будто бы в доме у Фролки-Кровососа вооруженные люди скрывались, что против нынешних властей зло замышляли, но чекисты и красноотрядники их изловили. А один, сказывают, убег. Его ищут, да видать без толку.
— Это меня ищут,— дрогнувшим голосом промолвил Угрюмов.— Что же ты не известил кого надо?
— Ты ко мне с бедой приполз,— вздохнул Тимоха,— оклемаешься, ну и ступай с богом за порог.
Он уселся на табурет и, кряхтя, стал растирать ладонями икры ног.
— А еще, сказывают, что сабля, краденная уж почитай как четверть века назад, сыскалась и нынче у Ваньши Изотова, сына покойного кузнеца Маркела, на сохранении. Так-то.
Угрюмов вспомнил, как при обыске Тихон принес главному из чекистов саблю, и тот бережно ее принял.
— И что это за сабля такая особенная? — спросил он у Тимохи.
— Сразу видать, паря, не из нашенских ты краев. История эта давняя. Помнится, немец приезжал на оружейный завод. Стал он клинками своими выхваляться. И посекла русская булатная сабля немецкий клинок. Порешило начальство саблю хранить под семью замками. Однако один бедовый мастеровой замки открыл и саблю увел. Да только счастья она ему не принесла. Мастеровой запил, загулеванил. Встретился ему в кабаке тот самый немец. Слово за слово. Просит немец мастерового саблю раздобыть. И цену красную назвал — две тысячи рублей.
— Что ж он не продал. Две тысячи — деньги немалые?
— Сабля-то русская. Зачем же такую диковинку в чужие руки отпускать? И порешил он продать саблю Фролу Кузьмичу Угрюмову. Тот собирал редкостные штуковины.
— И что дальше вышло?
— Обдурил кровосос. Дал триста рубликов и прогнал взашей.
— Весьма похоже на дядюшку,— прошептал Угрюмое.
— Помер, однако, Фролка. Жил в холе и неге, а поди ж ты, прибрал его господь. А я болезнью скрученный все еще скриплю. В грехах, как в шелках.
Читать дальше