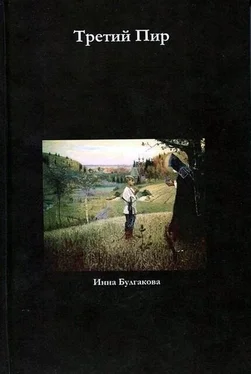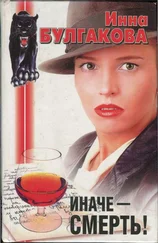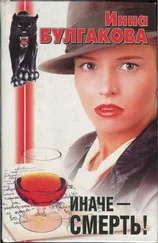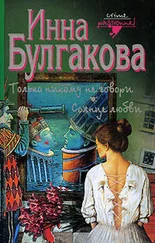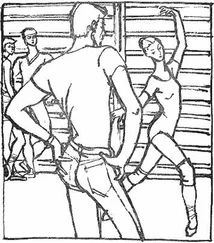Глава третья:
К ВОПРОСУ О ПРАВЕДНИКАХ
Митин роман. «В утробе матери зародыш проходит животные стадии». — «И в то же время одушевляется, возможно, еще в утробе». — «Этого никто не может знать». — «Никто. А если б знать! Тогда по аналогии мы раскрыли бы, как и в какой момент эволюции зверь явил собой человека. Промежуточное звено не найдено, в нем вся тайна».
А если тайна в том, что промежуточного звена не было? Было мгновение и катаклизм в день Шестой. Зверь выпрямился, взглянул в небо и сказал свое первое слово. А потом? Опять волчьи стаи?.. Что ж, если был момент явления человека в звере, значит, был и момент его падения — отражение непостижимой запредельной катастрофы — восстание Люцифера. Момент высшего своеволия. И как в крайних пределах, так и в наших, местных, соблазном явилась воля к власти. Ее сверкающий символ утвердился в Предании, а не в Писании — «царское» яблоко, так называемая золотая держава в левой руке земного кесаря. Драгоценное яблоко висело в древесных бликах добра и зла, а в вечной листве шевелилась трансцендентная тень. Человек поклонился зверю, переменился физически, небеса помутились, слово стало забытой тайной, мировая история двинулась в крестный путь. По аналогии: моменты непрерывно повторяются, отражаются, уходя в зеркальную запредельность. Звереныши в материнской утробе вдыхают душу, становятся детьми, потом взрослыми, забывают, играют в смертные игры, но временами глядят в небо, ищут знак, ловят звук, складывают буквы.
А яблоко, алое и девственное, было так прекрасно, что они и без змия не удержались бы и попробовали. Замысел Творца — «И станут двое — одна плоть» — исказился в своеволии твари, произошел разрыв, двое стали в муках утолять свое единство, рождая третьего. Этим мгновением оргазма человечество утолялось, не утоляясь, тысячелетия. Грядет Голгофа, искупление греха, Распятый напомнит о любви духовной: легкий чистый отблеск — откуда он падал, из каких лучезарных сфер? И станут двое одна душа, один дух?
«Не выйдет», — шепнет зверь-змий. По земной, искаженной после грехопадения логике духовное единство тотчас вступает в борьбу с плотским: дух стремится к вечности, плоть — к саморазрушению. Ведь и в лучезарные моменты любящие закрывают глаза, чтоб не видеть себя и друг друга, и тянет едким сквознячком откуда-то из подпола. В ветхозаветном начале мирских начал нас крупно надули: мы отдали тайну за власть — и попали в энергичные лапы; райский сад мы отдали за его слабый дрожащий отблеск, который называем любовью; свобода — сколько угодно, выбирай, преодолевай, борись, ведь и за гордое своеволие наше мы получили награду: непостижимый зияющий ужас в конце пути — смерть!
В полдень в саду напротив калитки сидела Милочка, дожидаясь хозяйки. Остальные томились вокруг да около. Их было пятеро: три собаки и два кота. Преданная семейка-свора образовалась постепенно. Милку, пушистую, белоснежную с черным накрапом лаечку, Митя подарил Поль. Золотисто-черного высокого красавца Арапа (восточноевропейскую овчарку) приобрел для себя. Патрик, оказавшись вскоре Патрицией, явилась на дачу этой весной, еще с голым брюшком; в профиль — слегка искаженный скотч-терьер, жгуче-черный жучок. Карлуша, сын покойной Иоси (матерый кот, разбойник околотка), привел своего сынишку Барона. Две серые тени прошмыгнули по улице, подлезли под забор и одинаково беззвучно замяукали, замерцали изумрудными глазками: «Дай минтай».
Все пятеро были ворами и бездельниками — каждый на свой лад. Карл промышлял преимущественно у соседей, подросток Барон не гнушался и в собственном доме. И Арап, случалось, проводил острой мордой над накрытым столом: тарелки пустели. Милочка, дама нежная и нервная, кушала очень мало, избранные кусочки, но любила обследовать не свои миски. Наконец, Патрик пользовалась всем у всех.
Коты, по обычаю, погуливали, регулярно забегая домой закусить и убедиться, что все тут по-прежнему принадлежит им. Загул, закуска, освежающий сон, ласка. Но чу! Дачная улочка издали оживает: нестись к калитке, чуять шаги и голоса, родной дух, прижиматься всем дрожащим от счастья тельцем к коленям, слезно сопеть и отталкивать друг друга. Хвосты метут воздух; коты поодаль, выгибая спинки, поют в ожидании своей очереди. А если чужестранец посмел потревожить серебряный колокольчик? Враг. Окружить, растерзать, а понадобится — отдать жизнь за любимых. Впрочем, это игра воображения: все пятеро отличались добротою с редкими порывами к убийству. Жертвоприношения (крыса, мышь, лягушка или нечаянный птенчик) складывались у ног для доказательства своей полезности в хозяйстве. Хотя ни в каких доказательствах зверюшки не нуждались, они жили любовью и любили как умели: самозабвенно — псы; коты — с достоинством, на равных — своих дорогих друзей Митю и Поль. (Сельская идиллия возникает в этой главе — пусть так, ведь все уже в далеком прошлом.)
Читать дальше