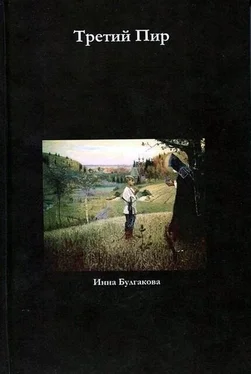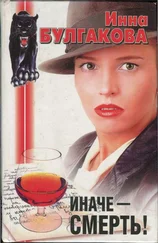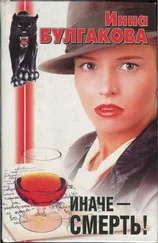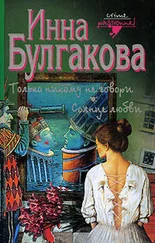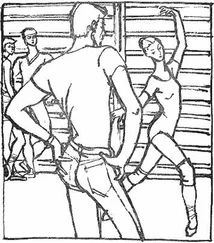— Сжальтесь надо мной.
Она вздрогнула.
— Что такое?
— Потерял сон.
— Почему?
— Нервы.
— Обратитесь к Борису Яковлевичу или вечером к дежурной медсестре.
— Но я выбрал вас.
В конце концов мы сошлись на пачке димедрола. Десять таблеток — четыре обморока часов по шесть-семь я себе обеспечил, а когда прятал вожделенную одурь в тумбочку, то рядом с неукраденным, неподаренным, неистребимым обручальным кольцом (воистину: закопай я его в землю — отроет и принесет верный пес; утопи в местном пруду — выловят и подадут на ужин в утробе костлявого бычка) в ящике увидел следующие знаки внимания: пять пачек „Явы“, новенький поместительный блокнот и дешевую шариковую авторучку голубого цвета. Голубой период Дмитрия Плахова. Это, конечно, он — дальний-близкий сосед и поклонник, подталкивает меня к созиданию. Покуда я грезил в березе, он подкинул оружие, впрочем, уже безопасное. Двадцать девятого августа в пятницу после „Заката Европы“ (Никита) я отдался полному и окончательному отвращению к чистой (и исписанной) бумаге и чернильному слову, захлопнул тумбочку и пошел покурить в преисподнюю перед уборной, где в горьком дыму и горькой вони прятались от администрации сердечники, язвенники, почвенники и неврастеники — словом, грешники. Никто не прочитает про дивный град, звоны, сады и воды, про всадников и пустые постаменты — никому это и не нужно.
А между тем забвения не было. Я помню себя рано, наверное, с года. Первый осмысленный толчок: я в кровати жду, когда бабушка поднимется с колен, ляжет, я прижмусь к ней и усну. С этого пробуждения все началось и не забывается.
Сегодняшние поразительные совпадения — легкие, мимолетные касания прошлого (где-то, в генах, я человек сентиментальный). Во-первых, мальчик со школьным ранцем на спине. Он сел на койку к Федору — отец гладил его по голове, мальчик отворачивался и смеялся, — скинул ранец и достал оттуда узелок из белого женского платка: передачка для папы. В точно таком платке я возил в Милое игрушки и сухари. Игрушки — нестоящая ерунда, для отвода родительских глаз, а вот сухари были нашей тайной. Не игрой, нет — делом серьезным и подпольным. Сухари прятались в бумажные мешки и в тумбочку (отсюда — „бабушкина тумбочка“). „Когда опять, не приведи Господь, начнется, — говорила бабушка, — вы не умрете“ (как умерли ее пятеро сыновей и муж). Под „начнется“ она подразумевала коллективизацию, хотя этого слова не знала. Я тоже не знал, а ощущал как всеобщую погибель, от которой нас спасут сухари.
Сергуня наизусть прочитал домашнее задание по „Родной речи“. „Буря мглою небо кроет… и заплачет, как дитя“». Конечно, он жив — с такой бессмертной, в школе не положенной концовкой:
Выпьем, верная подружка Бедной юности моей.
Выпьем с горя — где же кружка? — Сердцу будет веселей.
Второе совпадение — опять больничная передачка, но не в узелке, а в черной потертой кошелке. В ней, наоборот, бабушка привозила из Милого — и не сухари, а свежую зелень и яблоки. Маленькая старушка в черном (в глубоком трауре, хотя это немецкое слово — знак скорби — как-то нейдет к крестьянке) вынимала из кошелки оранжевые яблочки и шептала что-то дяде Пете, тот спросил с тоской:
— Мария, как там мой лес?
Оказывается, дядя Петя заведовал нашим Никольским лесом — вот оно, третье совпадение.
В пятницу я вернулся из Москвы в Милое, благоуханная ночь на крыльце закончилась сильным припадком. Зверье проводило меня до калитки — я разорил для них холодильник, — и потащился в больницу попросить таблеток каких-нибудь или уколов. Но напротив больничных лип и куполов через сжатое ржаное поле стоял наш лес — стоял как рай на заре. Туда! В последний раз, в гущу, в чащу, в поляны к земле, в возлюбленные прозрачные тени… бурелом, чистейший ключ, к яблоне (говорю же: я человек сентиментальный). Родничок загажен, а возлюбленные тени… одних уж нет, а те далече (знать бы где — и в упор в мерзкую плоть!). Все же я провалялся там под березами два дня в полусне, в полу-черт-знает-чем. Задохнуться б там насовсем, но: во-первых, у меня есть дело, которое я должен довести до конца. И потом — меньшие братья, ведь я не предвидел знакомства со странным человеком. И опять потащился в больницу.
Дяди Петина тоска недаром: пустили слух, что через Никольский лес пройдет скоростная трасса. Удобное, четырехполосное, бетонное полотно. Куда пройдет, в какую мертвую зону? Родина-мать, тебя насилуют кому не лень. Старик буйствовал, Мария молилась, Федор повторял в том смысле, что на наш век, дядя Петь, мол, хватит. На мой точно хватит, а со мной все кончится, разбегутся дрожащие тени, птицы, звери, замолкнут детские голубые голоса, воды оденутся в гранит, и град… все перепуталось, градом, садом, адом давно распорядились бесы. Несчастная мать и ее дети. Отец. Твой дар, Твой бесценный дар я называю воспоминанием. Ты позабыл про нас? Так возьми обратно все дары Свои, оставь нас окончательно и обеспечь забвением. Не берет, не оставляет… Не позабыл? Тогда я распоряжусь сам, приму две таблетки димедрола и уйду… не туда, куда хотелось бы. Сон явится продолжением бессонницы, бессонница — продолжением сна. И так до самой смерти, которая — не исключено — тоже продолжение здешнего беспокойства. А ведь я не прошу Тебя о вечности… Блокнот с авторучкой как-то сами собой очутились у меня в руках, и я записал: «Не прошу о вечности — всего лишь о передышке. Дай пройтись по дивному граду сквозь звоны к Никольскому ключу, встретить мальчика с узелком в школьном ранце и бабушку (Марию, Марфу) в черном и бессмертного поэта. И быть может, все вместе мы встретим взорванного Христа Спасителя». Вырвал листок, скомкал и выбросил в окошко.
Читать дальше