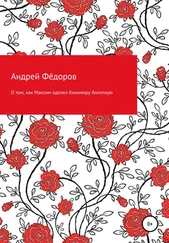— Что-то вы совсем… идите отдыхать. Мы его потянем.
— Жару с детства не переношу. Меня бы куда на север загнать.
— Загонют как-нибудь, — кивнул Серега, — по этапу.
Дед был снова розовый и вольно дышал.
Жучкин уже не надеялся, что придется поспать. Но все-таки влез у себя в кабинете на спинку койки и согнал комаров с потолка. Одного он потом журналом приплюснул к стене, другого — к дверце шкафа…
— Опять давления нет, — сказала трубка.
На рассвете Жучкин сидел в реанимационной и писал. Дед дышал глубоко, даже изредка двигался и что-то бормотал. От него почти все отключили. На стенах розовели косые призраки окон. Жучкин описал ночь на одной странице. Единственное, что было положительным на этом дежурстве — оставшиеся голодными комары.
— А фиг вам! — грустно сказал им Жучкин, когда его вызвали в пятый раз.
— Как наш пасечник? — палатная сестра только что умылась и пахла «Нефертити». — Ишь, как огурчик!
— Будет жить, — сказал Жучкин, — фирма веников не вяжет.
— Андрей Аркадич, а там родственники его прилетели. У крыльца стоят. Еще пяти не было.
— И что надо?
— Вас хотят.
— Пошли их…
— Может, они с бутылкой? Дед-то уже дома покойником стал. Небось не чаяли.
— Кто ему, ты думаешь, на бутылку-то давал? А бил его кто? Тут пишут, что он лет десять по семьсот граммов в день вводил в себя. Еже-дне-вно!
— Первая горячка?
— Вроде первая.
— Все ж выйдите, Андрей Аркадьевич. С полпятого стоят.
Жучкин вышел на крыльцо. От бессонницы все вокруг блестело, казалось излишне четким и ярким.
Кто тут? Какой-то вроде бы перепуганный гражданин, женщина в черном платке, загодя скорбная и кивающая согласно и уже умиротворенно (и наверное, подсчитавшая уже, что выставит на стол и кого пригласит на поминки), какой-то малец, почти перепоясанный собственной загипсованной рукой, бабуля…
Жучкин (в пропотевших портках и безрукавке) стоял и дышал. За забором кричала ворона.
— Жив ваш дед. Откачали.
Гражданин приблизился, странно пригнувшись, будто подкрадываясь. В нем было что-то от муравьеда. Нос, что ли, такой?
— Так. И правда, что ли, жив? Как это жив?! Вы что?!
— Миш, — сказала женщина, — ну и что? Пускай уж.
— Что пускай?! Доктора тут! Ты посмотри, — показал он на мальца в гипсе, — изувечил ведь! Он весь дом пропил! Кто мою кожанку загнал?! — подкрался гражданин к женщине.
— А кто ему позавчера красного купил?!
— А кто…
Одна старуха не кричала, не плакала, а если и плакала тихо, то, как показалось Жучкину, благодарно. Он улыбнулся ей, кивнул и ушел к себе в кабинет.
Стаскивая жирные от пота портки, он злорадно поглядывал на четырех голодных комаров:
— Сидите?! Ишь пасечники! Дармоеды шестиногие! Пить меньше надо!
Он швырнул в комаров полотенцем, а потом деловито, споро, умело прихлопнул на стенах трех. В последнего снова швырнул полотенцем.
— Андрей Аркадия! Вы чего?
— Да вон, последний! Гад! Сейчас…
— А тут эта… жена. Бабуля пасечника нашего.
— Ну? Свидание дадите, когда совсем очухается. К обеду переведете в общую палату и пустите ее к нему.
— Да нет. Она за забором в пшенице, что ли, нарвала… вот. Вам. Букет.
Лариса держала букет. Васильки и ромашки.
— Да?
Жучкин спрыгнул с койки:
— Готов последний! Ну и что? Чем не букет? А я люблю васильки и ромашки. Вон в ту вазу поставьте. Кто меня меняет? Юрка Царев? Скажите наконец этому Николаю, чтобы сетку сделал! Тут же спать нельзя от комарья. А васильки и ромашки? Через двое суток мне заступать. Доживут?
— Доживут. А чего не дожить?
Будущий композитор Малюскин, хилый юноша-очкарик (так стремительно выросший, что сейчас видно было: до старости ему не придется бороться с лишним весом и придется носить пиджаки с подкладными плечами), нес домой мелодию.
Возникла мелодия сегодня, прямо на полу в музыкальном классе училища, где в ожидании славы преподавал композитор. Возникла в результате ученого спора с ученицей Наташей — девушкой тоже очень поспешно выросшей (длинная шея, острые локти, впалые щеки, глаза навыкате). Кстати, похоже было, что оба они только что сбежали из какой-то нелепой страны длинноногих и суетливых очкариков, которые еще от бега не успокоились, не остыли, и потому Наташа то вскакивает, то садится, то захлопывает (и воробьи срываются с подоконника) крышку пианино, то откидывает ее, и пианино ослепительно улыбается щербатой улыбкой (а воробьи возвращаются на подоконник), то берет поспешный «крайне-правый» аккорд — что-то вроде чириканья, от чего воробьи подпрыгивают и переглядываются, композитор же, в своих обвисших на коленях и не поспевающих за его ростом и шагами джинсах, устремляется внезапно в дальний угол класса явно с намерением вернуться в ту страну, откуда сбежал, причем вернуться невзирая на мелкие препятствия вроде стен и углов.
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)