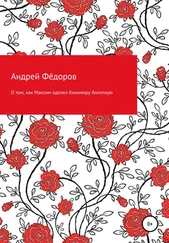— Господи, третья!
— Четвертая!
— Пятая…
Горящий край площадки уходил в небо.
Он все еще был жив.
— Восьмая!..
После двенадцатой он заплакал:
— Господи, тринадцатая!
— Четырнадцатая…
Костяная лестница потянулась и вся затрещала, по ней пошла судорога. Рвались последние нити.
— Двадцать три! — крикнул Морис.
Ноги его повисли в пустоте.
Лестница лопнула.
Он сжался в комок и закувыркался по камням подножия, а лестница с бормотаньем и хрипом обрушилась рядом, окатив его обломками. Морис вскочил и побежал, оглядываясь.
Палец Бангопы показывал в небо.
— Нет, — говорил Морис, — туда — нет… мне рано…
Он был сейчас черен, гол и тверд, как камни вельда, и мчался так легко по просторной пустыне…
На базарную площадь в Ургенче первыми входят маленькие ишаки, увешанные мягкими корзинами. Из корзин выкатывают на столы медные ядра дынь, разваливают по столам виноград светящимися холмами, строят пирамиды из теплых персиков.
Сливы тихо лопаются под подошвой, ломаются воздушные яблоки, на железных подносах плавится, искрит нежная клубника, все течет, преет и пахнет. И тут же свисает ядовито-зеленый флаг модной рубашки, надевают на тебя капитанскую фуражку Аму-Дарьинского флота, поят чем-то карминно-прозрачным из зеленоузорной пиалы, легкой, пористой и мелкой.
Потом ты перебегаешь (одуревший от солнца, которое раскаленным столбом в километр высоты давит на темя) от тополя к айве, из круглой, густой тени под тополем — к длинной, дырявой тени под айвой, прячешься в кафе с кондиционерами на другом краю оазиса, где подают ледяные пиво и воду и насмешливо смотрят жестокими восточными очами, или, если совсем повезет, — спускаешься во мрак чайханы, что по дороге на Самарканд.
Он лег на ковер.
Шептал, изредка всхлипывая, серебряный фонтан среди черных роз, стеклянным криком пугали перепелки в прозрачных клетках, в двери иногда проникал безжизненный дух пустыни.
Она легла рядом и чокнулась с его пиалой:
— Вот ты где?
Боже мой, он ее совсем не забывал!
Тюбетейка, жгуче-красное платье… а там? Тонкие пестрые штаны по щиколотку.
— Совсем сюда вернулась?
— Не знаю. Я была там, на базаре, — кивнула она, угадав вопрос, — и в кафе. Ты выглядишь так одиноко. Мне показалось — ты один.
— Я не думал, что нужно оглядываться.
— Теперь будешь оглядываться. Понравилось здесь?
— Здесь. А там наверху — жарко. Чай вкусный.
— Закажу тебе еще, бедный странник.
— Закажи.
Принесли новый чайник. Он видел опять очень близко ее глаза, касался холодных пальцев, и ему казалось, что их руки вспомнили друг друга. По предплечью, по темному пушку скитался золотой браслет с едким зеленым узором, брякали грубые монеты, перекатываясь по черноватой коже…
— По-вашему — судьба, кисмет — по-нашему. Никуда не уйдешь, странник.
— Я приехал сюда случайно.
— Существует только случай. Как сегодня.
— Да-а! Все сказки! — он махнул рукой и опрокинул пиалу.
— Если ты не ребенок, то ты уже умер.
— Угадай тогда, где я теперь живу. Тогда поверю. Чего же ты хочешь?
— Того же, что и ты. Ты злой, обиженный странник. Если меня не будет — совсем умрешь. Так зачем ты приехал сюда?
— Командировка. У вашего чайханщика грязный халат.
— Он постирает. Будет опять чистый халат. А ты все равно будешь теперь ждать. И оглядываться.
— Может быть. Но не долго. А теперь я уйду.
В Ургенче луна белая. Она покрывает город бесцветным прахом, удаляет из плодов кровяной сок, растворяет бледные тела домов и оставляет только тени.
Воздух пустыни так легок, что его словно нет.
Под луной полуголые люди играют в нарды. У открытого окна просторно, как в полете. Виден плоский город до окраин, где дымки тополей стоят уже на самом краю пропасти-пустыни…
Кажется, что это она прошла внизу по желтым клавишам, которыми выложили двор окна первого этажа.
Но дверь гостиницы не спела, не вскрикнула половица в коридоре, и командированный из Пензы на соседней койке не закрутился во сне от их шепота, от шороха их одежд, от их дыхания. Да и могло ли быть?
Утром он подхватил сумку с плодами Хорезма и не стал ждать никого, не искал ее взглядом на улицах, на берегу, где уже явился мутный знак солнца среди подвесок-отражений, и где остались на песке следы босых и обутых — всех, кто когда-то покинул этот берег, и где сам он оставил свои следы (вечные, как облака?). Уже на самолетном трапе оглянулся все-таки, но в цветной толпе у решетки ее не увидел.
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)