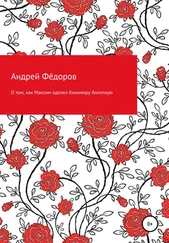На полянах среди блистающих бронзой и ржавой сталью цветущих трав — темные букеты сросшихся лип. Под липами глубокая — зеленым омутом — тень, и в полдень — просторная, на семь верст, тишина, ритмично рассекаемая напряженным, коротким жужжанием мух и ос. Лежит, положив голову на запрокинутые руки, жена Зоя (темная подмышка, рыжий муравей на щеке), разговаривает с жуком Ленка («Ты куда ползешь? Что ты там не видел?»), и стоят над миром маленькие снежные облака.
А так вроде и не было в его жизни какой-то особой благодати, но считал он ее удачной. Заслоняла часто его «цветная» добрая память то, что вроде забыть нельзя — лица и речи, превращала «пациентов» Степанова в бесцветную, исчезающую, все слабее гомонящую толпу, как бы записанную на убегающую в прошлое ленту, но ленту… все-таки… нет, все-таки сохранявшую всех там, позади, словно бы неизменными, там живущими, запросто вдруг извлекаемыми оттуда, иногда даже и некстати.
Вот так являлся ему вдруг Аким Головастый.
Аким тот был создан слишком просто: он умел пить, есть, ходить, кое-как разговаривать. Аким ничего не запоминал, ничего не понимал, ничем не интересовался. В первом классе он остался на второй год, во втором — тоже. В третьем он сидел три года и ушел в пастухи, но на другой же день «главный» пастух Монька вытянул его кнутом и прогнал навсегда. Потом Аким уже вовсе ничего не делал, только увеличивался, особенно голова (откуда и кличка). А еще через год Аким пропал, и его как-то не хватились. Только еще чуть не через год нашли Акима на сухом, свистящем сквозняками чердаке, сидящим у слухового окошка. Когда его коснулись, он бесшумно рассыпался. Над ним висел обрывок ременной петли и желтела пришпиленная к той же балке записка: «Это жисть? Больше так жить не хочу!»
Степанов не сомневался, что «так» Аким жить не мог. И не находил для него выхода, как ни придумывал какие-то особые условия, даже учитывая, что Аким, оказывается, научился писать. Вот тогда-то Степанов добыл учебник психиатрии и прочел главу об олигофрениях. Какие-то условия предлагались. Например, подобных Акиму приучали складывать коробки для мороженого. Одновременно предупреждали, что некоторые олигофрены опасны. Проводилась еще, намеками, правда, зловещая мысль, что возможны в результате пандемии алкоголизма целые опасные сообщества олигофренов — детей «пьяных ночей».
В другой главе Степанов прочитал тогда впервые о сумасшедшем немце Вагнере, ухлопавшим «по бредовым мотивам» больше десяти человек посторонних и всех своих близких. Может быть, Степанов воспринял эти сведения слишком однобоко, но выводы о психической неполноценности чуть ли не любого преступника его какое-то время устраивали. Исчезала даже нудная необходимость тратить силы на перевоспитание…
Только вот, «оживляя» ненароком Акима и свои мысли по этому поводу, Степанов временами становился мизантропом… особенно предосенними вечерами, когда после студеного дня с настороженным, переменчивым светом набежит, тревожа липы, закатный ветер, замечутся в ветвях тусклые огни княжеского дома и сам этот дом на фоне угрюмого, уже с зимними малиновыми оттенками заката покажется (из-за труб, колонн и завитушек) похожим на какой-то химический завод или самогонный аппарат, с таинственными и зловещими целями сооруженный вокруг живущих…
Шурка Бурдин, тоже рядом росший и нормально развившийся в начальника котельной, щуплый белозубый хохотун (на маленьком лице, когда он смеялся, глазки становились как «тире» и улыбка — несоразмерной и ослепительной), Шурка, никогда не имевший отношения к статьям Уголовного кодекса и главам учебника психиатрии, как-то, вернувшись слишком рано из котельной, застал жену с любовником (которого попросил выйти) и снял со стены двустволку.
Через час навестивший их Степанов нашел Шуркину жену Валю сидящей на опозоренной супружеской тахте, а Шурку — на полу напротив. Валя смотрела только одним глазом, вместо второго была дыра в кулак, Шурка же смотрел на нее в оба, но зато все великолепные зубы исчезли, губы лопнули и вывернулись, а Шуркин курчавый затылок, выбитый выстрелом, лежал на полке среди сувениров и открыток: «люби меня, как я тебя».
Таким вот образом, окончательное отношение Степанова к преступникам, к собственно Преступлению, к роли генетики и среды так пока и не сложилось. Да и то: спецнауки его не питали… Поэтому сейчас, распутав сальные тесемки на папке, он не стал ни о чем таком сложном рассуждать, а просто выписал на отдельный листок даты событий:
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)