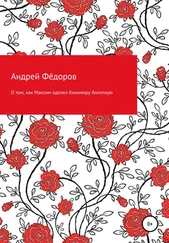Выйду ли я за ограду,
Снова вернусь ли потом —
В сумерках старого сада
Не отзовется никто…
Генка перестал спрашивать ее об отце, но слышал как-то в общем коридоре за спиной:
— Сиротинка бегает. А она-то что пережила!..
Он не понял тогда ничего и не очень задумывался об этом. Почти у всех его приятелей не было отцов.
Мать рассказала ему все, и он все понял лет через восемь или девять, когда давно уж и след простыл Верунин. Генка иногда встречал ее у проходной швейной фабрики. Она усмехалась и никогда не здоровалась. А вместо романсов Генка пел теперь что-то вроде: «Эй, рок, лэт гоу, рок, рок, рок!» И в это время как раз, главное, в их комнате наконец-то появился черный облупленный ящик на ножках — клавесин.
До этого клавесин стоял в гостиной у Юркиной бабушки, где, кроме того, обитала его мрачная, молчаливая «жена» — вполне современное пианино. Им с Юркой разрешалось «играть» на клавесине, крышка же пианино чаще всего, а потом уж и навсегда, была заперта на ключ.
Дело в том, что Юрку больше трех лет зря учили музыке. Учитель музыки дядя Жора, несуразно длинноногий, в узких черных брюках, важно упиравшийся тонкими руками в бока (издали, приближаясь по проселку, он был похож на портняжные ножницы), прежде всего говорил речь в окно, за которым в унылом ожидании вяло перебрасывались мячом Генка с Андрюхой:
— Дорогой Юра! Пойми, что я езжу из города не из-за денег! Для меня важно главное — люди, приобщенные мною к прекрасному! Твои товарищи гоняют мяч и теряют то прекрасное, на что жалеют средства их родители! А я посвятил свою жизнь музыке, Юра! (Генка иногда видел дядю Жору после урока у местного шалмана с музыкальной Веруней.) И чем ты лично отвечаешь мне, Юра?! Что ты сделал с прекрасным искусством за истекшую неделю?!
Вспотевший толстяк Юра с душераздирающей зевотой, беспомощно озираясь, погружал пальцы в клавиши, как в пасть крокодила… Кончался урок исполнением на всю улицу популярной мелодии «Страна родная Индонезия», которая у дяди Жоры превращалась в синкопированный гимн.
Только через три года почему-то выяснилось, что у Юрки нет музыкального слуха.
У клавесина же звук был нежный, с хрипотой и воем. Клавиши западали, на них потрескались или совсем с них исчезли костяные накладки. Но по скользкой крышке удобно было запускать волчок, медведь нападал на куклу Машу, прыгая по клавишам с левой стороны и производя «водопроводное» урчание, а Маша скакала по правой части клавиатуры, выделывая такие писки и стоны, что прозрачноглазая, невесомая Лика, для которой все это представление и устраивалось, всплескивала ручками и шептала, изнемогая:
— Ой, мальчики! Какое же смешное музыкальное сочинение!
Мать спрашивала у Генки:
— А играть-то на нем еще можно? По-настоящему?
— Юрка говорит, что еще можно.
— Откуда оно у них? От родителей?
— Вроде нет. Это Юркина бабушка зачем-то купила.
— А сколько оно может стоить?
— Он, — поправлял Генка, — клавесин. Я спрошу у Юрки.
Но забывал спросить.
Едва ли он замечал тогда, что мать ходит всегда в одной и той же юбке, что чуть не до середины лета ходит в галошах — тонких галошах на каблуках, из галош же виден верх туфель, а низа у туфель давно совсем нет.
— Они могут продать за шестьдесят новыми, — как-то сказала мать. Это была ее месячная зарплата.
— Придется денег опять занять, а то тебе совсем поздно будет учиться.
— А телевизор?
— Я уже говорила тебе. Запомни, что нельзя только потреблять, надо учиться что-то делать самому. Иначе жить скучно. Даже… бессмысленно.
И добавила:
— Так бы сказал твой отец.
Вскоре же и состоялся их разговор об отце.
Клавесин же привезли на телеге. Выгружали его трое Генкиных знакомых: киномеханик дядя Федя, человек истощенный и очень интеллигентный, еще — Леша, пузатый, двухметровый, по прозвищу Балерина, и еще — вечный возчик, местный дурачок Паша Конский, называвшийся так не потому, что правил лошадью, а, говорят, потому, что происходил не то из Польши, не то из Чехии и настоящая его фамилия была Пашконский. Паша умел говорить только одно слово «оп-мати», но с разными, интонациями. Леша Балерина — бывший диктор радиоузла, говорил много слов, глотая не только окончания, но и приставки с суффиксами. Только дядя Федя выражался очень правильно..
— Береребя! Нуимент! — гудел Леша.
Чрезвычайно худой, с дыбом стоящими ржавыми волосьями, оттого похожий сбоку на перевернутую корявую метлу, дядя Федя понимал его, но не соглашался:
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)