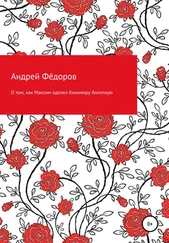Затем все замирало от щелчка в небесах и демонической силы гласа профессионала Леши Балерины:
— Нач тцы! Тацуем се!
Потом все плясало. И пыль мерцающими кольцами, как круги по воде, расходилась от танцплощадки.
— Ах ты, мастер-ломастер!
— Я только ту доску снял. Я внутрь не лазил.
— А я уж думала, что зря на вызов пришла. Пепельницу мне! И окно откройте!
— Ты не заболел? Чего кислый? Можно все исправить.
— Ничего… я спать хотел.
— Чего-то рано?
Стародомская, с крепко закушенной, переломленной папиросой в зубах, отворотив заднюю стенку клавикорда-клавесина, заглянула внутрь:
— Лампу настольную! Мужчина!
Анна Ивановна смотрела, как он встает, берет лампу, идет с нею к клавесину. Что-то в нем было новое и тревожившее ее.
Стародомская по плечо запустила руку в клавесин:
— Все же на месте! Тангенты, струны, все касается… очень интересно!
Она грохнула доску на пол, зашла спереди, стряхнула с руки комья пыли. Клавикорд звучал.
— Ну паникеры! Это что еще за мода?!
— Но он не играл.
— А давай сам пробуй! А то, мол, бабка Стародомская надула, понимаешь! Продала негодную вещь! Ты, я вижу, ничего играть-то… музыкальный юноша! Пусти-ка!
Генке вдруг показалось, что он это уже видел: серую тень с дымящейся папиросой — на стене, бегающие по клавишам бледные руки… Робко, устало улыбалась Анна Ивановна. А клавир, клавикорд, клавесин заливался дребезжащим колокольчиком… и что-то напоминала та мелодия, когда-то была, и каждая музыкальная фраза, еще только возникая, уже содержала в себе предсказуемую, логичную, ожидаемую, необходимую, пускай неотвратимую завершающую точку…
— Заставили старуху! Чаю давайте!
— А что это было, мам?
— Кампанелла.
— А чего ты?
— Да так. Разве ты можешь вспомнить? Тебе шесть месяцев было. Отец играл… чтобы ты поскорее уснул… как раз где-то в последний вечер.
— Анна Ивановна! Ну вот теперь! Вам не кажется, что вы не так одиноки? Или я слишком навязываюсь? И слушайте меня! В эту субботу сделаем небольшой праздник. Как говорили в мирные времена: я приглашаю вас отужинать! И вас, юноша.
— Мы придем.
— И не реветь!
— Генк! А ты мне сегодня не нравишься. Не заболел? Елизавета Станиславовна, садитесь! Не заболел? Ничего не случилось?
— Нет, — сказал Генка.
Ялдыкин подождал, пока Аза закроет за собой дверь, и поклонился Азе в пояс:
— Уж не чаяли! Ан, сподобилися!
Аза шваркнула чемоданчик у двери. Села на диван (до отвращения знакомый), с шелковым шорохом закинула ногу на ногу, поморщившись, стащила туфлю (Вот черт!), заглянула в нее, поправила там что-то внутри, прижала отклеившуюся кожицу. Шевелила пальцами освободившейся от тисков ноги.
— Чай будет?
— Ну?! — Ялдыкин опустился на пол у ее ног, распластался, погладил воровато по шелковому бедру:
— Чулочки-то! Нешто холодно?
— Уйди-ка! — она быстро пересела в другой угол дивана. — Уйду!
— Это надо же!
— Чего вызывал? — Аза, прищурившись и выпятив губку, оглядела комнату. — Ну и осветил! Морг какой-то!
Действительно, модные люминесцентные трубки выбелили ковер, высинили дворцу холодильника, сальной и сочной стала клякса на обоях, оставшаяся от снятого портрета, куски асбеста в жерле фальшивого камина смотрелись костями в печке крематория.
— Ничего! Покойников пока нету! Я еще очень живой человек!
— Уйди! Я серьезно! Уйду сейчас!
Снизу, с пола Ялдыкин видел сейчас ее прекрасное длинное лицо словно запрокинутым: темно под ресницами, припухшие, резко очерченные губы…
— Мог же я заскучать? Такая женщина! Я тут книгу одну читал. Поэт Брюсов был такой. У него один стих был про женщину…
— Зачем вызвал?
— А заболел! Правда, Азочка! Сердце так молотит! Ляжешь тут в одиночестве, вспомнишь светлые времена… сосчитал вчера пульс — сто тридцать ударов в одну минуту! Помощи прошу! Медицинской!
— У меня ведь еще вызов необслуженный есть. А на дворе — вон, темень.
— Но — тахикардия! Эта самая! Вон два пузырька ланатозида выжрал! Послушала бы больного человека! Больное ведь сердечко! — Он встал на четвереньки, поглядел еще на Азу, все постукивающую туфлей по ладони, выпрямился: «человек-негатив» — брови и виски белые, глаза черные. С пузом, которое не подумал подобрать.
— Сердечные тайны твои давно известны. Слушать тут нечего. Могу сестру прислать. Лельку. Сделает укол. Дам больничный. От ста тридцати в минуту ты не подохнешь.
— А от ста пятидесяти?
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)