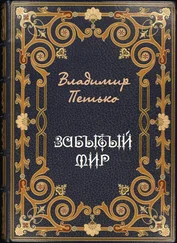Конечно, изначально Богданов занимался кладом с большим личным интересом. Даже с азартом! Как же это здорово — искать и найти! Он нашёл, вдруг остановился и всё передал вам — берите, ребята, вот вам клад! Это много денег! Да отчего же? Как это? Почему? За хорошие отношения! Просто чудо какое-то… Волга, да зимой, ночью, да так широко, что и краёв не видно… — Сменив тему и неожиданно замолчав, Зенков вкрадчиво спросил: — А вы знаете, что Богданов во время наступления в Польше был ранен? Какой-то есть там городок, называется Кельцы. И ранен легко, потому что свою часть догнал ещё до наступления на Берлин…
Я не знал. И молчал в ответ. На секунду мне показалось, что сейчас Зенков меня ударит по голове, но тут же стало ясно, что я уже рефлекторно готов к удару. Зачем ему меня бить, ведь я молчу, держу мысли при себе. Есть они или нет — другой разговор, но если молчать, то этого не видно, так что лучше молчать. Ну вот, откуда я мог узнать о ранении Богданова? Да ещё в Польше? Хотя Зенков-то узнал…
Если в Польше, то, значит, тогда была зима, хотя какая в Польше зима…
— Вы помните, каким годом датируется последняя запись в отчёте Богданова? — спросил Зенков.
— Не помню. — Я полез в карман и достал сигареты.
Оставалась одна, я знал об этом и хотел выкурить её на левом берегу, а закурил сейчас. Путешествие никак не кончалось, и я уже не желал так остро, чтобы оно скорее кончилось, а тоскливо вопрошал к вселенной: прекратится ли это когда-нибудь? А Зенков безжалостно отправлял меня в давние времена, в те, которые я плохо помнил и совсем не понимал. На меня он не смотрел — он смотрел вперёд, на Волгу, и любовался великой рекой.
— Тысяча девятьсот восемьдесят седьмым! И если бы у вас были, как вы считаете, хорошие отношения, так он вам и передал бы отчёт сразу, в восемьдесят седьмом! А вы его получили только в девяносто втором, после смерти Богданова. Пять лет он лежал у него на полке без движения, хотя ваши фамилии там есть. Как они туда попали?
Умолкнув, Зенков застыл. Его лицо скрывалось за капюшоном плаща, и только пар от дыхания свидетельствовал о том, что внутри этой темной оболочки — человек.
— Я почему-то думаю, что, если бы тогда, ещё в девяносто втором году, вы в этих оврагах друг друга перебили, все четверо, Богданов на том свете сильно бы порадовался. Пистолет, лопата, кайла, топор, ножи, ложки, миски, колышки от палатки, верёвки, да тот же чугунок — в качестве орудия убийства всё годится, и всё у вас тогда было под рукой! И как же вы тогда с Латалиным живые-то остались? Почему?
Со мной что-то происходило, а что — я и сам не понимал.
Так Зенков ещё ничего не знал о «Разъяснении»! Видимо, Павел счёл его за лирическое отступление — да ведь от руки оно было написано — и не стал копировать! Или Зенков не стал? «Не будучи до конца уверенным в правоте своего поступка, я тем не менее его совершаю»… Богданов это для нас написал, чтобы мы догадались, но, кроме меня, это оказалось никому не интересно, а я всё равно ничего не понял! А ведь это было очень давно, даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни! Что-то такое… Оно медленно наплывало и проявлялось. Я верить не хотел, сопротивлялся, а это же было!
— И всё это у вас ещё впереди, — протянул Зенков, — лично у вас…
— Да, это мои проблемы, — решительно, хотя и наобум, ответил я заученной фразой, — и давайте их не касаться!
— Удивительно красивое место, — ответил Зенков. Так ответил, будто бы забыл о только что произнесённых словах и будто были мы просто туристы. — И летом, и зимой! Правда, летом я здесь ночи не видел, но как она сейчас хороша! Удивительное место!
В громадном сумеречном пространстве ничего не изменилось, лишь глубже стала чёрная стена ночи, наползающая на Волгу с востока. Я снял рюкзак и положил его рядом на снег. Не поднимаясь, вынул ноги из ременных креплений лыж. Молчанием и переходом к ночной красоте Волги Зенков, наверное уже не думая об этом, окончательно определял меня чуркой. Правда, чуркой в переносном смысле, в смысле — человек-дерево, человек-колода, отчего я деревянно вспоминал и вспомнил то, о чём и мельком подумать было нельзя. То есть подумать было можно, но нежелательно, а главное — нельзя, никак нельзя было с чем-то соединить…
Я повалился вперёд и поехал-покатился вниз по снегу и вместе со снегом, переворачиваясь в движении и радуясь снежному шороху. Господи, как же были хороши эти несколько секунд: падать, скользить в снегу и потом лежать в сугробе, неловко притулившись в корявых ветвях кустарника! И с радостью здесь остаться! Навсегда! Я лежал на боку снежным бугром, и снег прохладно таял на левой щеке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу