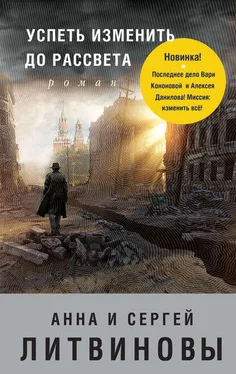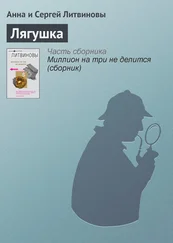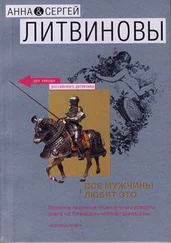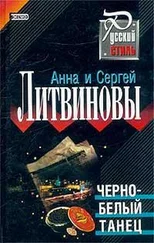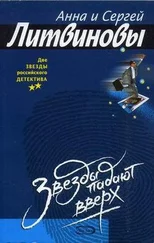В бараке, где жили Кордубцевы, имелся даже некий шарм. Черные, деревянные, будто подкопченные стены. Два этажа. Перед домом — палисадничек за легкой изгородью. Там по весне цветет сирень и жасмин. С противоположной стороны дома — огороды. Сейчас, в конце октября, они отдыхают, перекопанные, до весны, до новых посадок картофеля и свеклы. Огороды венчаются деревянной будкой сортира.
Я не знал, что буду делать с Кордубцевыми. Что я им скажу, как представлюсь. И потому решил не спешить. Понаблюдать, подумать.
Конечно, был бы я кем‑то вроде «патруля времени», наводящего порядок в прошлом и устраивающего зачистки, покончил бы с Семеном Кордубцевым, и дело с концом. И никогда бы не родился ни его сын Вячеслав (которому суждено будет погибнуть вместе с женой в шторм в Эгейском море), ни внук Елисей. Нет человека — нет проблемы. Так, кажется, говорилось здесь, в Советском Союзе, в совсем недавние времена?
Но я ничего подобного сделать не мог. Не мог — потому что не мог. Не умел и не хотел убивать. Да и потом — с какой стати? Лишать жизни, долгой и наверняка красивой, Семена Кордубцева — только по подозрению в том, что его внук (за которого он никоим образом не отвечает) через какое‑то время станет исчадием ада и посланцем темных сил на Земле? Нет‑нет, это без меня.
Но как тогда мне следовало действовать?
Я решил, что мне могут подсказать, натолкнуть на мысль, подарить идею местность и люди вокруг.
Барак, где проживали Кордубцевы, был не один в ряду себе подобных. На противоположной стороне красовались два аналогичных. Меж ними проходило нечто вроде улицы — впрочем, совершенно ничем не мощенной, ни асфальтом, ни даже гравием, просто более‑менее ровная земля, кое‑где поросшая травой. У палисадника вкопан был стол с двумя лавочками. В выходные и вечерами здесь наверняка разыгрывались доминошные партии, а кое‑когда и распивалась бутылочка «белой очищенной» за двадцать один рубль двадцать копеек. На площадке с четырьмя столбами были протянуты веревки и сушилось белье. За ним из окна второго этажа поглядывала время от времени тетка в платочке поверх бигуди — кражи белья, как я понимал, в бедняцком социалистическом Союзе практиковались. Глаз у тетки был дотошным и приметливым, и она немедленно срисовала меня — нового человека, не слишком уверенно подходящего к дому барачного типа.
Раз я обнаружен — значит, немедленно следовало действовать.
Да! Лицом и фигурой я выглядел как семнадцатилетний — но здесь уже заметил за собой способность в случае необходимости «включать старшего». Все‑таки внутренне я был Алексеем Даниловым, которому перевалило за тридцать. Вдобавок я научился изображать повадки здешних начальников: насупленность, нахмуренность, озабоченное судьбами державы чело. В подобные минуты, ей‑ей, все принимали меня за ответственное лицо.
По расположению окон я понял, где проживала тетка, надзиравшая за бельем. Поднялся по скрипучей, деревянной, истертой лестнице. В подъезде пахло керосином и кошками.
Дама в бигуди проживала в квартире номер четыре. Прекрасно, рядом располагалась пятая, кордубцевская. За их дверью, обитой дерматином, было тихо. За номером четыре разливались «Подмосковные вечера». Я внушительно постучал — никаких звонков в бараке не водилось.
Через минуту дверь распахнулась. Та самая женщина в бигуди и в халатике — на вид лет тридцати пяти. В СССР времен пятьдесят седьмого года (замечу попутно) женщины этого возраста, чуть моложе, чуть старше, были самыми несчастными в смысле поиска партнера: почти всех их сверстников выбила война и сталинские репрессии. Многим приходилось довольствоваться инвалидами, урывать счастья с женатиками, соблазнять стариков или юнцов. И потому неудивительно, что она уставилась на меня, возникшего на пороге, с нескрываемым женским интересом.
Ох, Варя! Пишу я об этом столь подробно и откровенно, разумеется, не для того, чтобы позлить или задеть тебя. Нет! Наоборот! Я боюсь, что шансы на то, что ты прочтешь эти записки, столь мизерны, столь ничтожны, что я могу быть в них совершенно откровенным. Ах, Варя, Варя! Неужели мне никогда больше не доведется глянуть в ясные твои очи под собольими бровями? Неужели никогда не сожму твою сильную, широкую руку? Неужели не покрою поцелуями твой большой, роскошный, прохладный, словно мраморный, бюст? (Я ж говорю, что могу писать все, что угодно, все равно шансов, что ты прочтешь — ноль целых, ноль десятых.) Неужели до самого твоего рождения остается еще без малого тридцать лет?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу