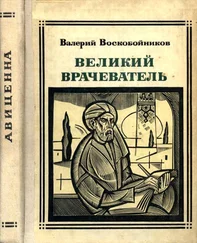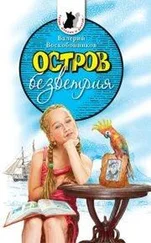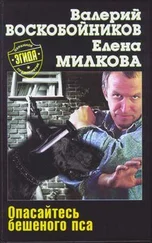— Каким героем? — удивилась Агния.
— Настоящим. Героем Советского Союза.
Старушка выглянула в коридор.
— Тогда в каждой комнате было по целой семье. Семьдесят жильцов в одной квартире — вы представляете! Гвалт стоял целые сутки. Разве что к пяти утра затихали, а в шесть уже поднимались те, кому на работу в утро. Мужчины все с войны — кто раненый, кто контуженый, у каждого нервы. Хорошо, когда просто бродили по коридору пьяные, а то драться затеют! Милиция к нам ехать боялась. Ну если убийство случалось, конечно, приезжали.
— А отец?
— Отец сам служил в милиции. Они с Верочкой, Антошкиной матерью, въехали в сорок четвертом вместо Печатниковой, которая в блокаду умерла.
— И вы все так хорошо помните?
— Каждого жильца, даже их детей. Тут и рос ваш гениальный художник, — повторила старушка, прикрывая дверь комнаты. — Это для вас он гениальный, а для меня как был Антошкой, так Антошкой и остался.
— Подождите! — переспросила Агния. — Отец — герой войны, а вы говорите, они сюда в сорок четвертом въехали.
— В сорок четвертом, — подтвердила старушка. — После ранения — у него легкое было пробито. И его взяли служить в милицию. И сразу командировали, знаете куда? — Агния молча развела руками. — В Чечню! — старушка проговорила это почти шепотом. — Чеченцев переселять. После этого он и запил. Напьется и плачет. Все вспоминал, как детей и старух забрасывал в вагоны. А мы не понимали, о чем он. Так они и жили, пока Антошка не родился. А как родился, стало совсем плохо: Антошка родился черненьким, а отец — блондин. И ему взбрело в голову, что это Верочка нагуляла — так сказать, горская месть.
— Что за ерунда, ничего не понимаю! Какая месть?
— Трезвому человеку это и не понять. А пьяному что угодно взбредет в голову. Я американцам, которые приезжали, час не могла объяснить. — И старушка заговорила так, словно терпеливо рассказывала урок нерадивому ученику: — И мать, и отец у Антошки — светлые. А сам он родился с черными волосами. Жесткие были, как сапожная щетка! Скоро выпали, потом другие выросли, тонкие и светленькие, но отец запомнил. И решил, что горские народы ему в отместку выделили своего, чтобы соблазнил Верочку, ну и… сами, в общем, понимаете. Я не могу говорить так свободно, как современная молодежь. В общем, чтоб она родила не от мужа, а от горского человека…
— Чушь какая!
— Конечно, чушь! И пока он ходил трезвый, то сам над этим смеялся, а как напьется — так словно безумный делается. В конце концов его из милиции выгнали.
— А потом?
— Что — потом? Политуру какую-то выпил и прямо в нашем парадном умер… Такой вот конец.
— Да уж… — проговорила Агния, чтобы сказать хоть что-нибудь. — А мать, другие родственники?
— Мать лет десять назад умерла, уже в своей квартире. Это Антошка ей купил, когда в Париж переехал. А про других я не знаю, может, и были…
— Но как-нибудь ведь он проявлял свой талант, вы не помните? Так же не бывает, чтобы человек жил и жил, а потом вдруг раз — и гений!
— Правильно, — согласилась старушка. — Сейчас я вам покажу… — Она прошла мимо нескольких дверей в сторону кухни-прихожей и толкнула крайнюю, видимо, свою. — К себе, извините, я вас не приглашаю, у меня беспорядок — как раз затеяла уборку.
Минуты через две старушка вынесла детский рисунок, вставленный в деревянную рамку. На листке цветными карандашами были нарисованы летящие самолеты с фашистскими знаками, а внизу — танки с красными звездами. И те и другие стреляли друг в друга. Похожие рисунки печатаются даже теперь в книгах о послевоенном детском творчестве. И все же рисунок Антона отличался от них. У летчиков и танкистов, которые выглядывали из каждого самолета и танка, были хорошо, словно взрослой рукой прорисованы лица. Причем у врагов они были искажены злобой, а у наших глаза лучились ангельским светом.
И было еще одно отличие, по которому узнавали любую работу взрослого Шолохова — некое особое, странное искривление пространства. И Агния сразу подумала о том, что не зря искусствоведы многих стран писали в тех сайтах, которые она сумела отыскать, о его необычном пространственном видении и сопоставляли с Эль Греко. Следовательно, это качество жило уже в раннем детстве.
— Ему было тогда шесть лет. А мне — двадцать пять.
Внизу под рисунком и в самом деле стояла корявая детская надпись, частично уходящая под рамку: «Дорогой тете Клаве от Антона — 25».
— Нищета у нас была тогда страшная! Этот вот рисунок — весь подарок, который вручила их семья. А у меня было угощение — винегрет, селедочка с картошкой, квашеная капуста и два плавленых сырка. Сырки другая соседка принесла. Тогда же все готовили в складчину. И кто бы сказал, что подарок — станет таким дорогим. Думаете, вы первая ко мне пришли? В прошлый год приезжали американцы — уговаривали продать. Сначала за тыщу долларов, потом даже за пять тысяч, — и старушка ласково провела рукой по стеклу, под которым находился рисунок. Но я им только позволила сфотографировать — себя с рисунком в руках. Так они, представляете, даже за это мне заплатили двести долларов! Вот так. Получился как бы подарок от Антошеньки с того света. Сейчас принесу. — И старушка отправилась за Фотокарточкой.
Читать дальше