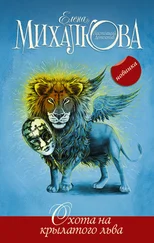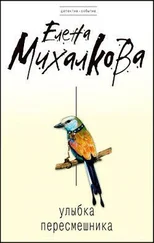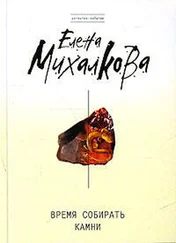Андреас отвлекался лишь на коз и в конце концов пустил их в дом — они лежали рядом, как две большие собаки, стерегущие покой хозяина.
За эту неделю дом пришел в полное запустение. Я старалась как могла, и Мина помогала мне. Но там, где у матери был порядок, у нас сохранялась лишь его видимость. Видит бог, мы пытались. Мина хотела заслужить похвалу отца, я — уберечь мать от горького разочарования, когда она придет в себя. И потом, ей ведь предстояло привести все в прежнее состояние. Я надеялась облегчить ее участь.
Но такие старые дома, как наш, признают лишь одного владельца. Мать давно стала его частью, вплелась в ткань его бытия. У домов иное течение времени: они живут дольше, но стареют раньше, чем мы. Мать отдалялась от людей, и, чем дальше она уходила от нас, тем глубже врастала в дом. Так дерево на скале переплетает свои корни с камнями. Чутье заранее подсказывало ей, где начнет протекать крыша и когда нужно вызвать печника, если в дымоходной трубе намечается трещина. Она не чинила, она предотвращала. И дом был благодарен ей за это, как благодарен врачу больной, избежавший операции.
Отец в те дни почти ничего не ел. Он как будто приносил жертву неведомому богу — он, не верящий ни в бога ни в дьявола.
Я смотрела на него и пыталась понять: о чем он тревожится? Любовь ли проснулась в нем или Андреас просто страшится потерять того, кто держит на своих плечах весь наш быт? Умри мать, и все тяготы домашних хлопот легли бы на него.
Отец достаточно красив, чтобы привести в дом новую жену.
Но он не может этого сделать. Мы все отлично понимаем, что это немыслимо.
У нас есть тайны, в которые нельзя посвящать чужака. И здесь не отделаешься комнатой с ключом, болтающимся на связке Синей Бороды. Вся наша жизнь — такая комната.
Я набиваю сумку колбасами и сырами, которые заготовила мать. За моей спиной Мина протестующе шипит. Затем взрывается криком и бросается на меня. Я покусилась на святое! На еду!
Но я не та трехлетняя девчушка, которую она сбросила с качелей. Моя сестра неповоротлива, как груженый баркас, и мне не стоит труда уклониться от нее.
— Стой! Иди сюда! Я тебя побью!
Я показываю ей язык и отскакиваю за стол. Мина носится за мной, затем в изнеможении падает на пол и сучит ногами. Я пользуюсь этим, чтобы вытащить из холодильника еще и банку с йогуртом.
Этого сестра не может перенести.
— Мама! — кричит она. — Отец, отец! Катерина нас грабит!
Топот ее ног слышен на крыльце, затем во дворе, где она распугивает птицу.
Бедная глупышка!
Я раскладываю продукты по местам и выскальзываю из кухни.
Дверь в комнату отца закрыта. Но у меня давно готова копия ключа.
Деньги лежат в верхнем ящике комода — целая пачка, такая толстая, что не умещается в руке. Купюры — в основном двадцатки, но есть и сотенные.
Я знаю, за что он получил их. Все в деревне знают!
Но люди становятся удивительно молчаливы, когда дело касается их выгоды. Самая болтливая старуха из трескучей белки превращается в безмолвную рыбу.
Я возвращаю деньги на место — все, кроме одной купюры — в точности так же, как они лежали, и еще проверяю номер на верхней банкноте. Отец наблюдателен, как старый лис.
В своей мастерской я достаю те двадцать евро, которые стащила у отца. Голубоватый прямоугольник с мостами и стрельчатыми витражными окнами. Бумага подготовлена заранее: тонкая, шелестящая — она обошлась мне в стоимость десяти картин, которые я рисовала до онемения руки.
Отец забирает у меня все деньги, что я выручаю за свои работы. Мне все-таки удавалось припрятывать по чуть-чуть. Он догадался об этом. С год назад вошел в мою мастерскую, сгреб все картины, приготовленные для продажи, и, ни слова не сказав, уехал.
Вернулся Андреас вечером, взбешенный как пес, у которого из-под носа выдрали кость. Все картины швырнул мне на стол.
На следующий день я отправилась в город сама.
— А, Катерина, девочка моя! — приветствовал меня старый Персакис.
В его лавке повсюду звенят колокольчики. У них серебристые птичьи голоса, как и у самого хозяина. Уверена, едва закрывается дверь за покупателями, он принимается болтать с ними, а они отвечают. Когда Персакис умрет, он станет черным дроздом и будет петь песни одинокой вдове, скрашивая ее старость.
— Что ты принесла мне, моя синеглазая малютка?
Я выложила работы на прилавок. Море, море — всегда одинаковое, всегда разное. Мне не удается поймать его душу. Но в моих картинах много света и воздуха — так утверждает Персакис и еще говорит, что я умею показывать сложное простым. Не понимаю, о чем он. Но раз моя мазня заставляет приезжих раскошелиться, пусть будет так.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу