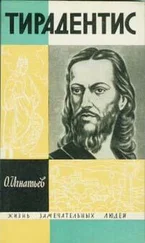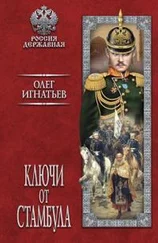Дворник начал подгребать и перекидывать песок, освобождая вход, под угол звания, и Климов, словно уверившись в том, что люди в большинстве своем честны и деловиты, вернулся мысленно в начало дня, затем — к последовавшим событиям. Может, впрямь, с ним сводят счеты те, кто так или иначе связан с психбольницей? К кому от Шевкопляс могут тянуться ниточки? Или же все много проще: ничего незначащие частности, случайности и совпадения, а в основном, несовершенство подзаконных актов? Ну, может, еще козни Слакогуза. Но это так же глупо, как глупо пальцем ковырять стекло.
Поймав себя на детской привычке водить пальцем по стеклу, Климов скрестил руки на груди и отогнал от себя мысль о кознях Слакогуза: сомнения и подозрительность способны целиком захватить ум человека и тогда чувствуешь себя, словно в тесном колодце — спуститься в него спустишься и сам, но выбраться без чужой помощи не сможешь. Он считал неприемлемым для себя идти на поводу у обстоятельств, недоверия и личной неприязни, считая, что в молодости, в детстве, в отрочестве все были не теми, кем стали с годами, и поэтому о людях надо думать лучше, чем они нам кажутся. Он не собирался закрывать глаза на очевидное, на отрицательные свойства человеческих характеров, но его честолюбию, а то, что он честолюбив, он это знал, был неприятен ход мышления тех «интеллектуалов», которые даже хорошие свойства людского сообщества или же наций выворачивали наизнанку.
Песка у входа в поликлинику оставалось еще много, дворник нехотя отбрасывал его куда подальше, и с каждой совковой отсыпкой Климов утверждался в мысли, что завтра он уже все будет делать так, как сочтет нужным.
Вышедший из поликлиники Петр быстро сбежал по освобожденной от песка лестничке к машине, дернул дверцу и умостился за рулем.
— Докладываю, шеф. Тот ухарь, что башкою разбодал курятник, жив-здоров, чего и вам желаю. — Климов улыбнулся, благодарственно кивнул. — Шрамов, правда, на его настырной роже поприбавится, я разговаривал с врачом, он наложил повязки, перебинтовал беднягу, но фамилии его не знает, и вообще, он видел его в первый раз; конечно, врач, как и положено, звякнул в милицию, но трубку не подняли. — Климов глянул на часы: пятнадцать сорок, день, считай, прошел. — Привез «гостечка», — Петр усмехнулся, — правильно, Валерка, я ему звонил, он тоже спрашивал, кто это так подрал амбалу морду?
— Ну, а ты что? — спросил Климов. — Как ты объяснил свой интерес?
Петр замялся.
— Да никак! Спросил его, мол, видел, что ты вез кого-то, будто пьяного, не Федьку ли Дерюгу, он ведь до сих пор не объявился, где он есть? А я ведь и об этом думаю, душа болит: ни трактора, ни Федора… Надо искать.
Климов задумался.
— А этот, как его, Валерка, не сказал, куда отвез амбала?
— Сказал. Я спрашивал. Довез до шахтоуправления, а дальше тот пошел один, А что?
— Я сам пока не знаю. Муть какая-то…
— Забудь. Я тут любому мозги вправлю.
— Как Федор говорит, без слов, но от души? — улыбнулся Климов.
— Во-во, именно так, — подтвердил Петр. — Главное, молча.
Он стал заводить двигатель, снова проверял что-то под рулем, выжал сцепление и, глядя на Климова, спросил:
— Ну, что? Поедем Федора шукать или ты как?
Климов помял щеку.
— Ты в поликлинике случайно зубника не видел?
Петр глянул на часы, на Климова, на дворника, отбрасывающего песок и, что-то просчитывая про себя, односложно ответил:
— Там он. Прямо и налево. За регистратурой.
Климов взялся за ручку дверцы.
— Не могу. Болит, зараза, — и указал на зуб.
— Тогда, иди. А я подъеду.
— Нет, — выбираясь из машины, сказал Климов. — Что мы, в самом деле… Все путем. Езжай сразу домой, ведь ты голодный…
Петр нажал стартер.
— Ни пуха…
— К черту!
В узком длинном коридоре поликлиники витал сквозящий волглый запах свежеразведенной извести: недавняя побелка высветлила стены. Сознание того, что жизнь еще не полностью заглохла, что кто-то еще красит, белит в Ключеводске, наводит марафет в присутственных местах, ободрила Климова и он почувствовал себя вольготней.
Очереди к стоматологу не было, и Климов постучал в едва притворенную дверь.
— Входите.
Пришлепнутое с боков лицо врача, казалось, не оставляло лишнего места для его крупных глаз, и они теснились возле переносицы с особой значимостью, с тем подчеркнуто гордым выражением, что не возникало никаких сомнений: если врач доволен своей работой, не стоит его поощрять. Любой гонорар покажется ему ничтожным, а скромная оплата по труду воспримется, пожалуй, как издевка.
Читать дальше