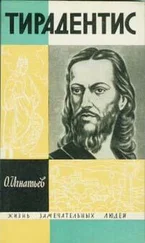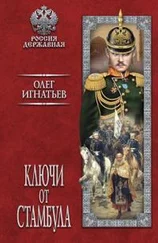Постояв возле полки современной литературы, Климов и на этот раз не удержался: купил серенький томик в бросовом бумажном переплете. В первом же стихотворении лирическая героиня неистово желала превратиться… в штурвал самолета, чтобы единственный и милый мог обнимать ее на высоте… В конце строфы сиротело такое душещипательное многоточие, что невольные ассоциации мелодраматического характера должны были привести читателя в душный будуар Одессы-мамы, где элегантный, как рояль, Мишка-Япончик кропил слезами семиструнную гитару: «Держась за Раю, как за поручни трамвая…»
Климов захлопнул томик и, проходя мимо автобусной остановки, оставил его на скамье под навесом: все же книга — жаль бросать в заплеванную урну.
Гунливый мужичонка в коверкотовой немодной кепке с твердым козырьком, уверявший скамью, на которой сидел, что все «фуйня, кроме пчел», оторвался от предмета просвещения, вывихнул подбородок в сторону Климова и попытался свести разбегающиеся зрачки к переносью. Он даже уперся руками в деревянную плаху, но, видимо, вконец обессилевший в неравной борьбе с мучившими его противоречиями жизни и собственными глазами, сунулся носом в болониевую куртюшку с замызганным воротом и неожиданно громко сказал, что «и пчелы — фуйня!»
Климов почему-то сразу подумал о Дерюгине, об «ибн-Феде», который после поломки трактора куда-то запропал и не объявлялся. Такие, обычно, приняв сто грамм «за воротник» не останавливаются потом и на поллитре.
Миновав автобусную остановку и доморощенного просветителя в немодной кепке с твердым козырьком, Климов постоял возле крашеного синей краской милицейского стенда всероссийского розыска: «Пропала девочка…», «Преступник обезврежен…» Объявления вернули его к действительности, оторвали от мыслей, навеянных местным философом, напомнили о тяготах собственной службы, о тех делах, которые на нем «висели». Он читал тексты ориентировок: «Особо опасен при задержании…», «…скрылся после совершенных им злодейств…», «…девочка была одета…» и делалось не по себе, как будто чувствовал одновременно два потока — теплый и холодный: ущербностью человеческой судьбы и горестным несовершенством мира тянуло от объявлений на стенде и еще откуда-то… Откуда?.. — Климов не знал. Но чувствовал: с востока сквозило теплом, а с запада — холодом. Два воздушных потока, точно два поезда, мчались навстречу — и мимо! — своей колеей.
Правая половина лица сразу застыла, и он погрел щеку ладонью: боялся застудить леченый зуб, хоть он и находился слева. Придерживая ладонь у щеки, он так и пошел навстречу холодному ветру, как будто наказывая себя за то, что день прошел бездарно. Медленно спускаясь по разрушенным ступеням одной из многочисленных лесенок города, добрел до «рынка».
Десять лавок, две торговки — вот и весь базар.
Одна говорливая старушка, зажевывая беззубыми деснами слова, предлагала сушеный шиповник, а другая молча поддевала мясной двухзубой вилкой пахнущую погребом капусту: перекладывала ее из эмалированного синего ведра в стеклянные банки.
Климов защипнул было предложенной ему «капустки», но, вспомнив о том, что ему жевать нельзя — врач запретил: зуб требовал покоя, — отошел в сторону.
Когда он навестил места, так или иначе связанные с его памятью, Климов свернул к дому Ефросиньи Александровны. Это был сороковой безымянный проулок, из тех, которые знал, которым был благодарен Климов за свое отрочество и начало юности.
В комнате Ефросиньи Александровны все было по-прежнему и это означало, что в доме наглядно присутствует смерть. Свечечка в сложенных на груди пальцах, меркло освещающая кончик носа и костисто выступающие скулы дорогого и бескровного лица покойной, медленно тянула свое пламя вверх, точно указывала путь еще одной, отмучавшейся на земле женской душе.
Все так же пахло тленом, сыростью и комнатной геранью.
Людей у гроба почти не было. Женщина с оцепенело- робкими глазами в черном траурном платке кивнула Климову, как старому знакомому, потом поднялась со стула и, проходя мимо старицы, читавшей еле внятно «Псалтирь», что-то шепнула ей на ухо, та еще ниже склонилась над книгой, придерживая одной рукой очки с отломанной дужкой, и, проходя на кухню, тихо позвала Климова:
— Пойдемте, я вас накормлю.
— Спасибо, — отказался было Климов, но она так ласково и просто повела его за плечи в кухню, что он не стал упрямиться. — Я подожду Петра, сказал он ей возле стола, когда она взялась за миску с приготовленной едой. — Так будет лучше.
Читать дальше