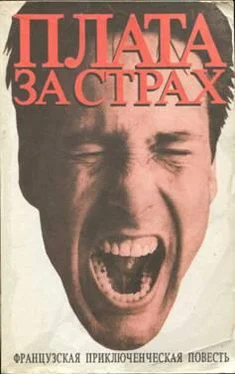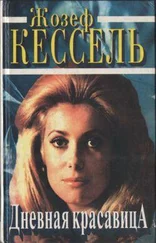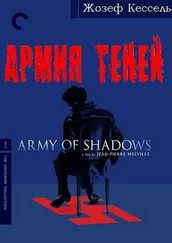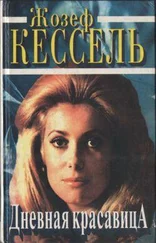Во время этих наскоков, когда пасть Кинга оказывалась в сантиметре от обнаженного горла морана и он чувствовал на себе жаркое львиное дыхание, ни один мускул ни разу не дрогнул на его теле атлета, его высокомерное лицо оставалось неподвижным.
Считал ли Ориунга, что власть его охраняется белой девочкой? Или это была безумная гордыня? Или гордость безупречного мужества? Или, может быть, что-то превыше гордости и мужества — слепая вера в предания племени, вера во всемогущество бесчисленных теней всех моранов, которые с незапамятных времен поражали львов или становились их жертвами?
Я не мог оторвать от Ориунги глаз, и мне было страшно. Но не за него. После всего, что я видел, я уверовал, что с дикими животными Патриция может делать все, — ей все дозволено. Но ей было мало зверей для своих игр, — теперь я это видел. Она хотела вовлечь в них людей, чтобы испытать свою власть над ними, забывая, что люди и звери живут по разным законам.
Внезапно Ориунга поднял правую руку и сурово заговорил:
— Он хочет уйти, — сказала Патриция. — Потому что он не желает быть игрушкой — даже для льва.
Ориунга прошел мимо рычащего Кинга, которого Патриция удерживала изо всех сил за вздыбленную гриву, и удалился своим небрежным окрыленным шагом. Перед тем, как выйти из тени длинных ветвей, он обернулся и снова заговорил.
— В следующий раз он придет со своим копьем, — сказала Патриция.
Моран давно уже исчез в зарослях, но огромный лев все еще дрожал от ярости. Патриция устроилась между его лап, прильнула к его груди. Только тогда он успокоился.
В тот день около трех часов ко мне в хижину неожиданно пришла Сибилла. Правда, она обещала зайти ко мне для особого разговора, когда нам никто не помешает. Но я все же думал, что она предупредит меня заранее. Однако меня больше удивило поведение молодой женщины, чем это отступление от правил приличия. Она была весела, спокойна и без своих ужасных черных очков.
Я извинился, что сразу не могу угостить ее чаем. Сам я пил чай только по утрам, и то из термоса.
— Но я сейчас позову боя или Бого, и нам приготовят, — сказал я Сибилле.
Она остановила меня:
— Вы ведь предпочитаете в это время виски, не правда ли? Так мне, по правде говоря, сейчас тоже лучше подайте стаканчик джина с лимоном.
У меня сохранился приличный запас напитков и всего, что к ним полагалось. Я расставил бутылки на столе веранды и наполнил бокалы.
— Право, мне совестно, что я заставила вас соблюдать скучнейший этикет в тот первый вечер у нас в доме, — сказала Сибилла. — И все из-за того, что мне захотелось показать вам наши сервизы и серебро.
Она улыбнулась слегка иронично и грустно и добавила:
— Порою цепляешься за всякие пустяки…
Я не смел взглянуть Сибилле в лицо. Я боялся: вдруг она поймет, как мне трудно поверить в ее искренность и здравый смысл.
Она пригубила из своего бокала и продолжала вполголоса:
— Хорошо порой немного выпить. Слишком хорошо. И слишком просто… стоит только посмотреть на жен некоторых колонистов здесь и в Найроби. У меня нервы и так уже сдают.
Она посмотрела на меня своими прекрасными глазами и сказала очень просто и с чувством:
— Мы все вам так благодарны. Посмотрите на Джона, посмотрите на малышку… Да и я какой стала, сами видите…
Откровенность Сибиллы была заразительной.
— Неужели вы думаете, что в этом моя заслуга? — спросил я. — Вам просто нужно поговорить с кем-нибудь, не замешанным в ваши семейные дела.
— Да, это правда, — сказала Сибилла. — Мы уже не можем говорить друг с другом о самом важном.
Сибилла склонила голову. Глаза ее почти закрылись. Но она решила идти до конца. Казалось, она хотела воспользоваться последней возможностью. И она сказала:
— Все это не потому, что любовь ушла. Наоборот: ее слишком много.
Чтобы взглянуть мне прямо в глаза, молодая женщина подняла голову. Лицо ее в этот миг выражало решимость и отчаянное мужество. Решимость — любой ценой понять, что происходит в ней и вокруг нее, а мужество — сказать об этом напрямик.
— Понимаете, — продолжала Сибилла, — мы любим настолько, что чувствуем, какую боль причиняем друг другу, и это невыносимо! А поэтому каждый из нас хочет, старается переложить вину на другого.
Черты Сибиллы исказились, морщинки обозначились резче, но она сохраняла спокойствие и твердость. Ровным голосом она продолжала:
— Я говорю себе, что Джон, — бесчувственный дикарь, которому наплевать на все, кроме его зверей, которому безразлично будущее и счастье Патриции… А Джон говорит себе, — лицо Сибиллы осветила прекрасная и нежная улыбка, — о, я уверена, очень редко и очень робко он говорит себе, что я истеричная горожанка, что я ничего не понимаю в великолепии джунглей и что из-за своего снобизма и своих психозов я делаю Патрицию несчастной. А малышка думает, будто я предпочитаю, чтобы она умерла от тоски в Найроби, а не была счастлива здесь со своим львом. И если отец пытается как-то ее вразумить, она воображает, что это только из-за меня и начинает ненавидеть нас обоих. А когда Джон, бедняга Джон, хочет порадовать свою дочь, я обвиняю их обоих, что они сговариваются против меня…
Читать дальше