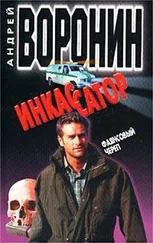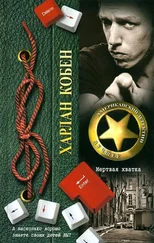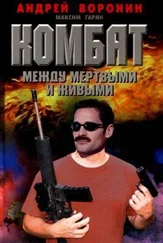В неглубокой впадине между двумя округлыми насыпными холмиками, наполовину скрытая от посторонних взглядов кустами можжевельника, стояла, роняя в траву чудом уцелевшие розовые лепестки, карликовая яблоня с идеально круглой кроной. Даже плохо разбиравшийся в ботанике папа Май узнал ее с первого взгляда: это была гордость Букреева, яблоня Гесперид – яблоня, которой не было здесь еще вчера вечером.
* * *
Протолкавшись сквозь плотную толпу раздраженных людей в тамбуре, полковник Сорокин сошел на перрон и с облегчением вдохнул полной грудью теплый, пахнущий мазутом и разогретым асфальтом воздух, показавшийся ему необыкновенно свежим и душистым после царившей в вагоне электрички адской духоты, от которой не спасали даже открытые настежь окна.
Очутившись на платформе, полковник первым делом заглянул в туго набитый полиэтиленовый пакет, который держал в правой руке. Сваренные вкрутую яйца, конечно же, помялись, на треснувшей скорлупе желтело, медленно тая, размазавшееся сливочное масло, а бутерброды с колбасой приобрели такой вид, словно их уже ели. Глубже полковник не полез – не хотелось окончательно расстраиваться. По крайней мере главное было цело: вагонная давка нисколько не повредила двум коньячным бутылкам, надежно защищенным со всех сторон пакетами и свертками с разнообразной снедью.
Убедившись, что все более или менее в порядке, полковник аккуратно пристроил пакет между ног, вынул из нагрудного кармана рубашки расплющенную в блин и неприятно влажную на ощупь пачку сигарет, нашарил в брюках зажигалку и неторопливо закурил, глядя, как разбегаются в разные стороны и исчезают в придорожном перелеске его навьюченные корзинами и длинными свертками с шанцевым инструментом попутчики. Светлый березовый перелесок был буквально изрезан тропинками, и по каждой из них торопливо шагали дачники. С высоты платформы это здорово напоминало деловитое движение муравьиных колонн или, к примеру, вереницы чернокожих рабов на хлопковых плантациях американского Юга.
Позади полковника протяжно свистнула электричка. Заныли электромоторы, застучали компрессоры, двери зашипели и захлопнулись с глухим стуком, электричка взвыла, как голодный демон, и отчалила от платформы, напоследок обдав спину Сорокина тугим теплым ветром. Потом железный грохот ее колес стих в отдалении, и на полковника снизошла тихая загородная благодать: жужжание проводов, стрекот кузнечиков в траве, шелест молодой, еще не успевшей запылиться листвы, птичий гомон в кронах берез и удаляющиеся голоса дачников, сопровождаемые глухим лязгом сталкивающихся лопат. Сквозь тяжелые запахи железной дороги явственно пробивались ароматы цветения; на железную трубу ограждения села лимонно-желтая бабочка-капустница.
Сорокин не спеша докурил сигарету до конца, наслаждаясь тишиной, одиночеством и отсутствием суеты. Наверное, это все-таки была неплохая идея – приехать сюда на электричке, а не на служебной «Волге», как обычно. Да, теперь, на свежем воздухе, на просторе, это казалось просто отличной идеей, хотя в электричке, умирая от духоты, скользя в собственном и чужом поту и поминутно ощущая ребрами то чьи-то потные локти, то твердый черенок какой-нибудь лопаты, полковник мысленно проклинал все на свете: и общественный транспорт, и дачников, и жару, и Забродова с его идиотской, неизвестно кому и зачем понадобившейся конспирацией, и в особенности себя – за то что, как мальчик, поддался на провокацию.
Легкий ветерок холодил разгоряченную спину, на ребрах, под мышками и над поясом брюк быстро подсыхал пот.
Людишки-муравьишки окончательно затерялись в березняке, их голоса и бряканье шанцевого инструмента удалились за пределы слышимости. Полковник бросил окурок на рельсы, подхватил пакет с продуктами и выпивкой и стал неторопливо спускаться с платформы по выщербленным бетонным ступеням. На его губах играла тень довольной улыбки: в кои-то веки он был один и, главное, мог не причислять себя к разряду рабочих муравьев и чернокожих сборщиков хлопка; там, на тещиной плантации, всю неделю сидел этот чокнутый Забродов, добровольно записавшийся в муравьи и негры одновременно. Сорокину было совершенно непонятно, зачем это ему понадобилось, но он знал Забродова не первый год и понимал, что расспрашивать его бесполезно. Захочет – сам скажет, а не захочет – черта с два ты от него чего-нибудь добьешься..
Тропинка вывела его через перелесок в поле, где уже почти по колено поднялась какая-то зелень. Зелень красиво ходила волнами, стелясь по ветру, и Сорокин наблюдал за переливами зеленого и серебристого цветов с благожелательной улыбкой горожанина, неспособного отличить ячмень от пшеницы, а рожь – от овса, не говоря уж о какой-нибудь люцерне или, скажем, рапсе, который, по слухам, в последнее время вошел в моду в Белоруссии, прямо как кукуруза при Хрущеве. Для Сорокина, как и для многих других горожан, редко попадающих в деревню, вся эта зелень носила собирательное название – хлеба. Хлеба колосятся; а хорошие в этом году уродились хлеба!
Читать дальше