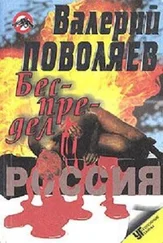Против телевизионной войны обыватель, в сущности, ничего не имел. По крайней мере, её можно было выключить. К сообщениям о тысячах убитых, раненых пропавших без вести относился совершенно равнодушно: это ведь были не живые люди.
Это были всего лишь цифры, маленькие черненькие загогулинки, которые можно умножать, делить и расчленять на дроби безо всякого ущерба для них. Взвод — это малюсенький листочек с цифрами, рота — побольше, полк — испещренная арифметическими иероглифами бумажная скатерть. Листочки носились в воздухе целыми стаями, сталкивались, рвались, горели, и вместо пришедших в негодность появлялись все новые и новые, так что в конце концов начинало казаться, что такая бумажная метель будет продолжаться всегда. Это было чертовски скучно. Как сбор макулатуры.
Обыватель не любил войну. И никакая сила в этом мире — от районного военкома до Ганнибала у ворот — не заставила бы его принять участие в таком безобразии. Одна мысль о холоде, грязи и отсутствии раздельного санузла повергала обывателя в уныние. Он был твердо уверен, что здесь, рядом, всегда найдется кто-то, кто в нужный момент стукнет кулаком по столу и «наведет порядок». А в крайнем случае всегда можно уехать куда-нибудь подальше.
Обыватель был умный. Он знал: война это нечто предосудительное, нечто недостойное приличных людей, занятие и прибежище хамов, мерзавцев и уголовников. Они в детстве не уступали места в троллейбусе, курили за углом школы, воровали булочки в продмаге, а теперь — на тебе! — воюют.
Обыватель был умный. У него хватало дел поважнее…
Поздней апрельской ночью Миха торчал на железнодорожной станции Слободка в ожидании поезда на Киев. Было прохладно. Моросил ленивый дождь. Пятнистая форма с красно-зеленым шевроном на рукаве и полевая фуражка цвета хаки грели паршиво, и Миха, подхватив небольшую сумку с вещами на локоть, бродил туда-сюда по перрону, курил в кулак и то и дело нетерпеливо поглядывал на часы. Но стрелки на его «командирских», казалось, прилипли к циферблату. Он даже подергал рукой, дескать, давай, машинка, шевели пошнями!..
Хотелось просто взять и перевести стрелки на сколько нужно вперед. Как будто поезд стоит за углом вокзала и, чтобы выкатиться под погрузку, ему нужно только оперделенное положение стрелок.
Миха усмехнулся. Потом, вспомнив о ночи и сырости, зябко повел плечами. Ему было холодно, но внутрь, где сон, и теснота, и вонь, идти не хотелось. Здесь было интереснее. Здесь были гудки, крепкий запах мазута, свежесть и простор, черное небо над головой и далекий перестук колес.
Миха представил себе киевский поезд, этакого ворчливого пожилого толстяка в зеленом, торопливо грохочущего на стыках где-то далеко-далеко в мокрых неуютных степях, и снова усмехнулся. «Давай-давай, старина, не зависай, не спи — замерзнешь… Поспешай… Это ведь я тебя здесь жду… Я, а не кто-нибудь другой… Так что мотай рельсы на колеса, да побыстрее…» Он вообразил себе локомотив с рельсами, намотанными на колеса, и даже фыркнул от удовольствия.
Настроение было отличным. Позади оставался год жизни, за который никогда не придется краснеть, и честно выполненное дело, и война, и слава, и отвага. Впереди — Бог весть… Наверняка, там ждало его множество приятных вещей. Каких — Миха даже и задумываться не хотел. Пусть лучше они станут радостным сюрпризом. «Ведь есть же Господь… Пусть Он и позаботится обо всем!..» Миха ни на секунду не сомневался, что Он — позаботится…
«Старуха-История в первый раз обмишурилась. Ее мрачные ведьминские пророчества оказались блефом, — жизнерадостно думал Миха, посасывая „примку“. — Ледисмит устоял, Кимберли, Блумфонтейн и Мафекинг не были отданы на милость заморского победителя, Претория не выкинула белый флаг. Трансвааль не сгорел, он оказался неопалимой купиной, и красные мундиры англичан пожухли и опали в его огне как лепестки увядших маков. И теперь гордым британцам не остается ничего другого, как сидеть у себя в Кишиневе и мрачно мечтать о скором реванше, подкрепляя ослабевшую воинскую доблесть могучими порциями кроваво-красного вина… Ну и пусть их… Гунны тоже хлестали кровь, что вино. И толку-то… Ах, какая жалость, что я не говорю на африкаанс! Я бы исполнил „Трансвааль в огне“ по-бурски. По-бурому, я бы сказал… Кстати, о маках. Знающие люди говорят, что если измельчить пустые маковые головки…» Ни о чем другом Михе думать не хотелось. Ни о плохом, ни о хорошем. И без этого было клево…
Читать дальше