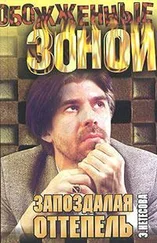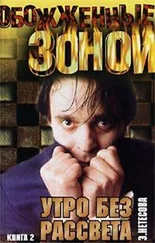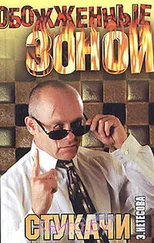оказалась. Увидела Гошку, окликнула, к себе подозвала:
— Гоша, как человека и мужчину прошу, дай мне пару рыбок. Стыдно просить тебя, но больше некого. Остальные поселковые если ловят, то только для себя. Все позабыли, а ведь я, когда работала председателем исполкома, всем и каждому помогала. Никто не плакал, выйдя из моего кабинета. Все были довольны. Но когда вышла на пенсию, меня забыли. И куда бы ни пришла, не узнают. А иные откровенно удивляются и спрашивают: «Как? Вы еще живы?» — выскочила слезинка из глаза, скатилась на потертое старое пальтецо.
Женщине вдруг стало неловко за свое откровение и слабость. Она хотела уйти, извинившись перед Корнеевым за назойливость, но тот остановил, взял женщину за локоть и попросил тихо:
— Подождите чуток! Сейчас все сделаем, — у человека застрял комок в горле.
Он вошел в реку, подождал хороший косяк и в считанные секунды накидал в лодку пяток кетин. Больше женщина не подняла бы.
— Возьмите. Ешьте на здоровье и живите долго, как только сможете. Без вас здесь вовсе зверинец будет. Туристов можно привозить, чтобы в натуре все увидели! Сами! И убедились, что люди в чертей превратиться могут легко и просто. Когда рыба кончится, найдете меня. Я вам всегда помогу, — спустился в лодку и, помахав рукой удивленной старушке, вывел лодку на середину Широкой.
Корнеев поехал в верховья реки, где по слухам скучковались браконьеры. Теперь они ловили рыбу с оглядкой, внимательно наблюдая за рекою, не появится ли на ней лодка ненавистного инспектора.
Для этих целей на берегу свою охрану поставили. Те, завидя Гошку издалека, должны были тут же предупредить всех о появлении поселенца.
Кого и как предупреждают, Гоша еще не знал. Он взял с собою Динку. Она была послушнее и агрессивнее Дика, считалась с хозяином, понимала его с полуслова. Собака быстро усвоила, что от нее нужно, и внимательно следила за берегами, сидя на носу лодки.
Гоша миновал поселок. Дальше пошли пустынные берега. На многие километры ни одного дома, лишь охотничья заимка Притыкина с ветхим шалашом. За нею, в десятке километров — палатка Хабаровой. В стороне от нее — зимовье летит. Егора тоже теперь не застать дома. Участок к зиме готовит. Убирает сухостой и перестой, коряги и пни выкорчевывает, чтобы не мешали расти молоди. Каждую нору, дупло, логово и берлогу запоминает. Подсчет ведет, чтоб знать, какие звери ушли, сколько и чего прибавилось на участке.
Едва о Егоре вспомнил, увидел его на берегу. Тот рукой махнул, позвал. Когда к нему завернул, лесник в лодку заскочил.
— Подкинь к соседу. Пешком далековато, а с тобой мигом, — сказал громко.
— Зачем тебе к нему?
— Морду на жопу сверну гаду! Вздумал козел озоровать у меня. Я три года растил своих ребят. С малышни, с сосунков их выходил, а он, туды его мать, стрелять в них вздумал. Ногу пропорол, переднюю. Хромой вернулся мой Орлик! Я тому паскуде, Торшину, яйцы вырву вместе с ногами! — грозил Егор.
— Погоди, ты о каких малышах гундишь? — не понял Гошка.
— О каких? Про своих говорю!
— А при чем тут передняя нога? Иль у твоей детворы еще и задние копыта есть? — удивлялся поселенец.
— Я ж — про оленей! Обоих в лесу нашел. Сиротами остались. Олениху медведь завалил. Оленятам всего по неделе было. Я их домой взял. Выпоил,
выкормил, на ножки поставил, ведь померли б без матери. Даже на шеи им нашил ошейники, пометив, что домашние, нельзя стрелять. Они людей не боялись. Так Торшин и воспользовался. В упор стрелял, шелупень треклятая! Будь он неладен, таежная вонючка, клоп проклятый! Самого урою! — грозил Егор, задыхаясь от злости. — Это хорошо, что Орлик сильный, сумел убежать и домой воротиться. Я ему ногу живицей обмазал. Должна скоро зажить. Теперь он в зимовье лежит. Мои волчата сторожат обоих. Никого не подпустят к ним! — глянул на берег и заорал, — да вот он сам! Сворачивай! Навешаю гаду пиздюлей, чтоб до гроба помнил! — выскочил из лодки и бросился следом за убегающим соседом.
Гоша слышал, как поймал Егор Яшку, как швырял его, вдавливая в коряги и кочки, как вопил тот на всю тайгу, моля о пощаде и прощении.
Егор не скоро успокоился и долго не давал соседу отдохнуть:
— Зверюга поганая! За что хотел моего пацана урыть?! Иль хавать нечего? Иль зависть засушила
змея? Знай, кабанья твоя шкура, никогда не прощу и не забуду твоего паскудства!
— Я ошейник не приметил! Не нарочно! Если б узнал и пальцем бы не тронул! — оправдывался Торшин.
— Брехун! Ошейник Орлика сдалеку виден. Краска на нем особая, в темноте и в тумане светится! Мало того, я рога ему покрасил. Все про это знали и не трогали, а ты — хряк немытый! — влепил Егор хлестко. Торшин снова улетел под какую-то корягу, взвыл от боли.
Читать дальше