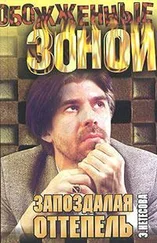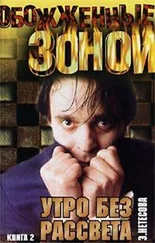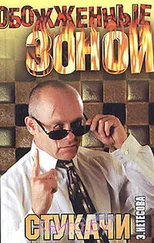— Ворон ворону глаз не выклюет. Сочтутся на угольях, — криво усмехнулся Гусев.
— Можно мне сегодня еще отдохнуть? — истолковал по-своему приход Шамана священник.
Виктор головой замотал:
— Неделю вам, батюшка, даже во двор выходить нельзя. Все ноги- руки — изувечены. Спину лечить надо. Почки еле дышат, печень стонет. Все поотбивали. О чем вы? О какой работе? Жив — и то слава Богу!
Виктор отдал настой, отвары Пелагее. Объяснил, как надо лечить Харитона и вскоре ушел, пообещав заглянуть вечером.
Отец Харитон, едва Шаман ушел, заставил себя пройти по комнате. Пусть медленно, держась за стены, кусая от боли губы, но он понимал, что жить за счет общины долго — нельзя.
Он заставлял себя выздороветь скорее. И, превозмогая подступавшую к горлу тошноту и боль, делал новый шаг.
Кружилась голова, во рту все пересыхало и солоноватый вкус крови стал довольно ощутимым. Только тогда Харитон снова лег в постель.
Жена заставила выпить лекарства, принесенные Шаманом. И вскоре боль отлегла, отпустила.
Отец Харитон уснул не поев.
Пелагея осторожно вытерла пот с лица мужа. И, отправив детей на работу, принялась за уборку дома.
Харитон спал, наверстывая упущенное, набираясь сил.
В обед ему принесли из общинной кухни наваристой ухи, гречневой каши с молоком и много варенья для чая.
Священник ел. А Дуняшка Гусева просила Бога исцелить, вернуть здоровье отцу Харитону как можно скорее.
Вечером, когда священника навестил Шаман, Харитон уже пытался ходить по комнате не держась за стены.
И, хотя от боли струился пот от макушки до пяток, а колени предательски дрожали, священник молился и делал новый шаг, и снова выдерживали ноги на диво всей семье и Гусеву.
— Что нового? — спросил Виктора, вернувшись к постели.
— Никанора нет нигде. Дети все вокруг осмотрели. У пограничников спрашивали. Не видели ни кого.
— Сыщется. Этот не пропадет. Такие бесследно не исчезают. Скоро объявится. А может, перекинут его в другое место. В область. За властями следить. С нас какой прок нынче? Вымираем, как мамонты. И о чем бы меж собой ни говорили — дальше Усолья не уходит, средь нас умирает. Никому вреда не приносим. Перестали быть социально опасными. Да и какой толк засадить в тюрьму ссыльного? Это как из клетки в клетку пересадить. Его теперь к делам важным готовят. На настоящее стукачество. А мы, как я догадываюсь, перестали интересовать власти. Нынче Никанора на повышение пошлют. Он, наверно, подучивается. Инструктаж сучий проходит, — смеялся Харитон и добавил:
— Горек его хлеб. Еще горше — доля. С такой судьбой лучше не жить, и не рождаться на свет. Всем враг. И Богу, и людям. Потому что сатане служит. Из его рук ест. Дети, когда поймут, отвернутся. На погосте его добрым словом помянуть некому станет. Есть ли чья доля хуже этой?
— То по-нашему. А по его — может все иначе вовсе. Думает, что двух коров тянет. Он задарма не пернет. Так что не мне его жалеть. Он о смерти не думает. Такие подолгу живут. Потому, как падаль… Она всю жизнь воняет, но не гниет, — не согласился Гусев.
— Ты мне о новостях скажи. Что в селе нового? О людях. Ведь вот вчера Пелагея сказала о Катерине из поселка. Про Алешку Пескарева. А больше ничего не знаю.
— Ну, то как же! У Лидки, Оськиной бабы, мальчонка объявился. Народился эдакий рыжик! Крепыш! Ну, копия Оська. И горластый — в обоих родителей. Я роды принимал. Все благополучно. Так что скоро крестины новые. Готовьтесь, отец Харитон. Чтоб к тому времени здоровье было.
— Слава Тебе, Господи! — перекрестился священник и пожелал здоровья и светлой судьбы новому усольцу.
— Осип на радостях, даже материться разучился. До сих пор обалделый ходит. А Лидка его как расцвела! Даже не узнать бабу! Не орет. Только мальца баюкает. И все ему песни поет. Оказывается, много ль бабе надо было? Рожала — не крикнула. Терпела.
— А еще что?
— Бабы наши вчера в совхоз пошли. Картошку сажать. Пятнадцать гектаров земли нам дали. Насовсем. Но сказали, что больше не получим, хоть сколько людей ни прибавится в Усолье.
— Слава Богу и на том!
— Это сегодня. А через годы? Ведь у нас дети родятся. Вон уж мой сын с Татьяной, дочкой Ерофея, полюбились друг дружке. Я-то их детьми считал. А вчера меня огорошил. Мол, сколько меня за мальчишку считать будешь? Жениться решил… Я и опешил. Так недолго под старость вдвоем с бабой остаться. Аж горько стало. Ведь сыны уже надумали дома себе ладить. Взрослыми делаются. А и Татьяна, глянул, уже девушка. Вся в мать изрослась. Хорошенькая. Увидела меня — глаза вниз, застеснялась, — делился Шаман. И, помолчав, добавил:
Читать дальше