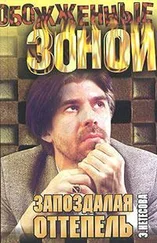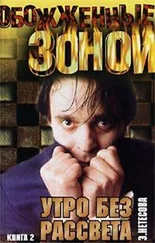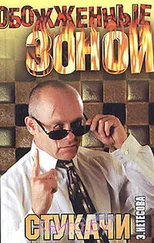Никанор ждал, что сын одумается, вернется. И все забудется, наладится.
«Пусть прогуляется по берегу моря, остынет, одумается. И вернется, как ни в чем не бывало», — думал Никанор.
Он видел, как Егор пошел к морю.
Но шло время. Сгущались сумерки. Потом и ночь нависла над Усольем, сын не возвращался.
Не пришел он и ночью. Не вернулся под утро.
По закрытой на гвоздь двери чердака понял Никанор, что и там никого нет.
Сердце дрогнуло. Решил сходить к морю, проверить, куда делся сын?
Егор спал в лодке. Раскинувшись, разметавшись по-ребячьи. Из полуоткрытого рта вырывалось тихое похрапывание. Вот только сдвинутые на лбу, в одну линию — брови, говорили, что вчерашний разговор не забыт и обдумывался всю ночь.
Егор спал. А Никанор всю ночь не сомкнул глаз, ожидая сына. Чего не передумал, всякое предположил. И сыновнее предательство и даже самоубийство Егора. Но он жив…
— Егорка! Иди домой. Мать совсем измоталась. Помоги ей. Заждались тебя, — не приказал, попросил сына.
Тот тряхнул головой, стряхивая остатки сна. Ничего отцу не ответил, но домой вернулся. Мать он любил. И вернулся к ней, это Никанор понял сразу.
Вообще дети в семье льнули к матери. Егора, отца, старались обходить. Никогда ни о чем не спрашивали, не просили у него. Даже ели за отдельным столом на кухне, чтобы меньше попадаться ему на глаза. Они, коль так случилось, слушали Никанора, но не слушались. Делали все, как мать велела. Странно росли. Никогда не дрались между собой, не ругались. Ничего не отнимали. И дышать друг без друга не могли. Уж если что-то делал один, то другие без дела тоже не сидели. Перепала одному конфета — пососав, либо откусив свою часть, другим отдавал.
Трое их было. Двое сыновей и дочь. Все в мать удались. И лицом, и характерами. Вот только Егорка в последнее время изменился. Взрослеть стал. Другие с ним спорить не решались. Никогда ни о чем не говорили, не делились с отцом. Все секреты несли к матери. От нее не таились. Все нараспашку. И обиды, и радости. Она у них и советчица, и утешительница. Она и друг. Ее они понимали без слов, со взгляда.
Никанору иногда даже обидно было. Ведь вот ни разу не бил детей, ругал изредка. Всех вместе. Другие своих ремнями колотили. А дети через минуту, забыв о боли, снова к родителям льнули душой и сердцем… Никогда не помня обид, не держали зла за душой.
Тут же, стоило слово сказать одному, остальные вступались. Выгораживали, оправдывали, а потом по нескольку дней не разговаривали с ним, обижались, считая его одного виновным во всем.
Виновным он стал давно. Того в семье никто не знал. Учился в академии, куда его, как лучшего студента, направили сразу по окончании сельхозинститута, где он, Никанор, все пять лет был бессменным комсоргом.
Отец Никанора, старый деревенский пастух, до умиленных слез гордился своим сыном, выбившимся в люди из грязной, прокуренной избенки, напичканной клопами и тараканами.
В ней даже чихать громко было небезопасно. Хата могла разлететься во все стороны в мелкие брызги. А все потому, что построена была еще седьмым коленом, а может, первым на земле
Блохиным — пращуром, родившимся в незапамятные времена. И ни разу с того времени она не ремонтировалась. Не знала мороки с побелкой, покраской, никогда не мылись в ней полы и окна. Зато в ней было выпито столько хмельного — любой кабак бы позавидовал.
Стены этого дома слышали столько непотребных слов, что даже дети, едва открыв рот, говорили такое, от чего заскорузлые алкаши теряли надолго дар речи.
Дети в семье Блохиных рождались каждый год, их было много. И отец — глава семьи, часто говорил:
— Хоть этим мы свою фамилию оправдаем. Другим Бог не наделил.
Когда Никанор проявил способность к науке, отец возмутился:
— А кто, мать твою в сраку ел, родителей содержать будет? Кормить, поить и прочие хреновности приносить? Я тебе мозги поставлю на место! — замахнулся пастушьим кнутом. Но Никанора защитил священник, потом новая власть, приметившая его. Она пригрела и пастуха. Определив его за организаторские способности и веселый нрав бригадиром животноводов.
Отец Блохин от такой чести даже протрезвел. И ущипнув себя за немытую много лет задницу, проверил, уж не спит ли он? Не померещилось ли спьяну чудное? Но нет…
Видно, принявший это решение был пьянее пастуха иль дурнее быка. А может, насолить хотел председателю колхоза, а заодно и новой власти.
Старший Блохин на радостях отпустил сына в науку. И тот, вырвавшись из глухой, обветшалой деревни, уже никогда в нее не вернулся.
Читать дальше