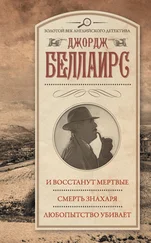Корреспонденцию о положении в экономике пришлось готовить на одних наблюдениях. Убийство Пратит Тука вызвало разговоры и слухи на текстильных комбинатах и транспорте, рисовых складах, консервных заводах. Официальные лица отвечали вежливыми отказами на просьбу о встрече, не желая оказаться первыми в комментировании путаной обстановки и обсуждении туманных дел хозяйственных корпораций. Неосторожное слово вызывало в этой стране непредвиденную цепь неожиданных последствий. А завершения следствия по делу о гибели профсоюзного лидера, явившейся не просто уголовной сенсацией, хотелось дождаться, каким бы ни оказались результаты. И Бэзил хитрил. Отправив корреспонденцию, ради которой приезжал, попросил разрешения остаться, съездить на север, чтобы сделать «в загон» еще одну. Шеф слишком хорошо представлял условия, в которых работали корреспонденты его отдела — развивающихся стран, то есть тяжелых климатически и неуютных политически, чтобы не догадаться, что Бэзил зачем-то специально тянет время.
Теперь, глядя в окно, в котором ничего не виднелось, кроме отражения зеленоватого света ночника, утопленного в нише, и раскачивающегося, как привидение, кремового пиджака японца, Бэзил думал о шефе, одна из обязанностей которого состояла в том, чтобы у его людей в командировках не возникало сомнений относительно «тыловой» необеспеченности порученных заданий. Бэзил как никогда оценил эту заботу во время марша вьетнамских войск на Сайгон весной семьдесят пятого, в изнуряющие дни «освобождения» этими же войсками Пномпеня в январе семьдесят девятого и полные паники недели вьетнамского отступления под «ударом возмездия», нанесенным китайцами в марте того же года. Московские газеты приходили раз в месяц, и Бэзил разрывал желто-серые бандерольки, волнуясь: что опубликовали? Печатали все. Иногда по телефону доносились искаженные расстоянием жесткие интонации шефа: «Опаздываешь. Твой портрет прикажешь ставить на пустом месте в газете?»
Было, шеф взял на себя ошибку Бэзила, о которой просигналил в Москву закадычный друг. Бэзил, узнав об этом, не проникся жаждой мести доброжелателю, слащавые писания которого в самое большое агентство не раз вытягивал в порядке помощи. Он проникся другим: уверенностью в высшей справедливости, конкретным воплощением которой для него стало человеческое обеспечение дела в его газете. «Демченко» — стояло на дверях кабинета шефа. И благодаря этому человеку он не хотел бы оказаться каким-нибудь социологом или политологом или чем-то в этом роде, занимаясь, как овца на огороженном лугу, выщипыванием вокруг себя информации и ее перевариванием в прикидки на будущее, забывая самое главное, а именно — проявление характера — главное в порывах, ошибках и новых пробах.
«Ох, я разозлился», — подумал Бэзил.
Рита сказала в ресторане «Русь»:
— Чтобы работать там, где ты, нужно родиться с двумя качествами — чувством юмора и большим самомнением... А они не совместимы ни в природе, ни в обществе.
— Чтобы ты считала себя совсем правой, давай я спрошу: если взболтать бутылку шампанского, долетит пробка вон до той дамы, которую коробит наша разница в летах? Ей там станет ясно, что по духу я еще мальчишка, молод, так сказать... Или меня выведет метрдотель, что еще больше утешит ее страдающее этическое мировосприятие...
— Ох, ты разозлился, — сказала Рита.
Он никогда не писал так, как разговаривал. Иначе бы не написал и строчки.
В Чиенгмай, в семистах пятидесяти километрах от Бангкока, «северную столицу», к которой подходила вплотную одна из сторон «Золотого треугольника»—района производства опиумного мака, захватывающего территории Таиланда, Бирмы, Китая и Лаоса, — Бэзил приезжал пять лет назад. Чистенький, процветающий город среди плодородных рисовых долин предгорья. Горизонт — кольцо голубых кряжей. Самый высокий — Дой Сутхеп — на закате бросал тень на улицы, пробитые сквозь обветшалые стены квадратной средневековой ограды. На восходе, розовея, в безветренном небе зависали прозрачные облака. Величаво нагромождались, рассасывались и возникали снова. Почти в каждом переулке сверкала позолота пагод. Почти каждый день на какой-либо улице шумело гулянье, чаще веселые буддистские похороны. Из вросших в землю ворот старого храма вытягивались, словно янтарные бусы, вереницы бонз в шафрановых тогах. Толпа вопящих парней тащила следом барабаны на бамбуковых жердях. Пританцовывающие девушки с шиньонами, перетянутыми жемчужными или серебряными нитями, в сверкающих шарфах, прикрывающих грудь, прижимали чеканные вазы с цветами. Одетые в белое старухи тащились под зонтами с изображением птиц. Зубоскалившие подвыпившие великовозрастные молодцы воздевали деревца, обвешанные бумажными деньгами, и деревянные изображения, символизирующие их мужское достоинство... Тощие горбатые коровы, возвращаясь с пастбища, ежевечерне разбредались по улицам. Свирепо раздували ноздри из-за едкого смога, показывали желтые зубы, стертые о жесткие травы у поросших ивняком отмелей реки Пинг.
Читать дальше



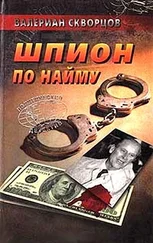


![Елена Труфанова - Мертвому - смерть [СИ]](/books/395329/elena-trufanova-mertvomu-smert-si-thumb.webp)