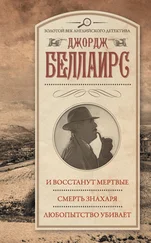Имелись и другие воспоминания. Но все они относились к далекому прошлому.
— Когда я в первый раз попал в тюрьму, — рассказывал Кхой, — мне едва исполнилось восемнадцать. Ты думаешь, я не боялся? Но в одной камере оказался со мной слесарь из пномпеньского депо. Он сказал мне: «Не бойся. Если у тебя твердое сердце, ты не почувствуешь боли даже под самой страшной пыткой». Он успокоил меня и научил играть в китайские шахматы... Вскоре его вызвали на казнь. Он отдал мне свою алюминиевую миску, а другому товарищу — противомоскитную сетку... Ни у кого на глазах не появилось слез. Он только сказал: «Прощайте», и его увели... А в боях весной семьдесят пятого, когда мы наступали на Пномпень, мое подразделение попало под шквальный огонь. Один из наших выдвинулся далеко вперед с пулеметом, заставил замолчать вражеский пулемет, но и его сразила граната... Другой повторил его подвиг. Не было ни печали, ни слов.». Почему же я плачу сейчас?
Плакать Кхой не считал зазорным. Именно поэтому Палавек думал, что он больше китаец, чем кхмер. Ребятишек из «соансоков» в такие минуты Кхой невоздержанно упрекал в том, что они только и помышляют перебраться в город, предаться удобствам, пригреться под боком богатых женщин.
— Помните, что лес и деревня должны окружить и растворить города. Только человек, живущий в мире с самим собой, может быть счастливее обладателя материальных благ...
Сам Кхой в таком мире не жил. «Амарит» и «Мекхонг» потреблялись втайне. Да и счастье в практическом смысле понималось неоднозначно. Быть борцом и уничтожать врагов в молодости, наслаждаться плодами победы и добытым благополучием в преклонных летах... Кхой не желал говорить о жизни рядовых бойцов, питавшихся рыбьей похлебкой и получавших только пальмовый самогон. С болезненным интересом собирал сведения об имуществе соратников, также относился к дипломам об образовании, к направлениям на учебу. Перемещения в должности известного ему человека вызывали длинные рассуждения и предположения. У меня нет, так пусть и ни у кого не будет, всем не хватает, пусть у всех будет одинаково понемногу—такой вырисовывалась из долгих и путаных Кхоевских рассуждений философия распределения благ.
Представитель «Отдела 870» при внешней замкнутости, суровости и сдержанности оказался чувствительным к любому вниманию к его личности, падок на лесть. Он был циничен и сентиментален, замкнут и доверчив. С ним не мог сговориться честный боец из отряда, но мог сделать все, что угодно, ловкий пройдоха. Палавек, насмотревшийся и в армии сержантов, и по бангкокским ночным заведениям такого сорта людей, пускал в ход примитивное актерство, и оно срабатывало. Начальник обладал способностью сделаться сегодня до остервенения подозрительным, а на следующий день утратить какие бы то ни было признаки обыденной осторожности.
Кхой напоминал швейцара из «Сахарной хибарки». Он был без корней.
Трехэтажную деревянную виллу, принадлежавшую некогда французскому поселенцу, замусоренную, с натасканной на полы оранжевой грязью, окруженную чахлыми бананами, со змеями, прятавшимися в бамбуковой мебели под засаленными подушками, с тюрьмой в гараже и огромной кухней, население обходило. Главное административное здание района окружал пустырь с невытоптанной травой. Две красноватые колеи, пробитые колесами трех проржавевших «лендроверов» румынского производства, связывали с миром. Катание в колымагах предпринималось только для доставки очередной партии заключенных до очередной братской могилы. Называлось «последним развлечением». На операции отправлялись на машинах очень редко из-за перебоев с доставкой бензина.
Одного из арестантов в гараже звали Ким Ронг. Низенький, обритый наголо. Волдыри проглядывали через прорехи сопревшей на теле футболки. Палавек не раз слышал, как на допросах он требовал от Кхоя, с которым, видимо, знаком был давно, еще со времен партизанского существования, «проведения в жизнь принципов коммунистического манифеста». Он орал, что нынешний путь, по которому ведут страну, далеко разошелся с тем, за который они боролись.
—- Ты — узурпировавший власть мещанин! Ты — люмпен! — кричал Ким Ронг.
Как и многие узники, он был безухим. Вместо ушей торчали величиной с абрикосовую косточку наросты. Выполнявшие обязанности надзирателей бойцы практиковали особый прием: били заключенных по ушам. Ушные раковины постепенно съеживались и превращались в хрящи.
Читать дальше



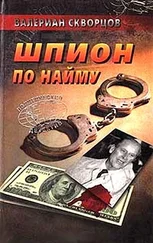


![Елена Труфанова - Мертвому - смерть [СИ]](/books/395329/elena-trufanova-mertvomu-smert-si-thumb.webp)