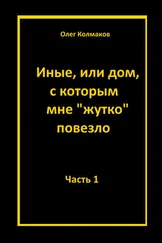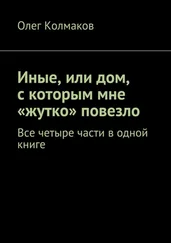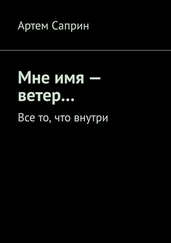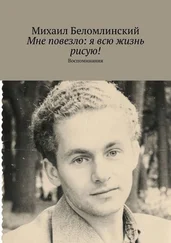Перекладываем его на осмотровый стол. Врач сует мне в руки фонарик:
— Свети!
Я не сразу понял, куда светить и зачем. А врач орет:
— В глаза свети, идиот! В глаза!!!
А где у него глаза? Где в этом месиве глаза и откуда им там быть?
Врач берет мою руку и направляет свет в какую-то лишь ему понятную точку. И тут я понимаю, что там, полузалепленный ошметками горелой кожи, действительно глаз. Хотя, скорее, подобие глаза — какая-то желеобразная масса.
И тут врач начинает с ним… разговаривать. Хотя это скорее крик, а не разговор:
— Видишь свет? Отвечай. Видишь или нет? Дай знать!
Я даже не понял поначалу, к кому он обращается. Сообразил, только услышав откуда-то из-под этого месива какое-то глухое мычание…
Он реагировал! Он жил там, под этой коркой! Внутри этого обрубка, под этим месивом, в котором невозможно было даже приблизительно разглядеть черты человеческого лица… Он цеплялся за жизнь, за этот крохотный лучик света снаружи…
Я даже не хочу задумываться, что он чувствовал в этот момент. Какую испытывал боль. И не знаю, что было с ним дальше. И не хочу знать, не хочу думать и догадываться. Хотя догадываюсь… Но эта чужая боль сидит во мне все эти почти уже 30 лет. И не утихнет. И не уйдет никогда. И не забудется…
Помимо прочих радостей жизни в виде нормальной еды, сна и человеческого в целом отношения были в госпитале и другие прелести, напоминавшие о давно забытой гражданке. Кино, например. Причем здесь его можно было воспринимать в исходном, первоначальном предназначении — поход в кино с целью просмотра кинофильма.
Дело в том, что встречи с «важнейшим из искусств» нам изредка устраивали и в Фергане, и даже в Гардезе. Но у бойца первого года службы попадание на полтора-два часа в полутемное помещение, где его оставляют на это время в покое, вызывает лишь одну реакцию — сугубо рефлекторную и непреодолимую. Те, кто служил, уже заулыбались… Правильно, он засыпает. Сон этот, конечно, не назовешь глубоким и спокойным — периодически нужно изображать интерес к происходящему на экране. Ибо отсутствие такового порождает ужасную обиду в отцах-командирах и старших товарищах. Их желание приобщить молодого солдата к прекрасному столь велико, что низменное стремление этого раздолбая захрючить доставляет им неизъяснимые мучения, непреодолимо перерастающие в злобное шипенье, подзатыльники, тычки под ребра и тому подобные приемы приобщения к искусству.
Для молодых солдат крайне важно выработать систему поочередного сна, чтобы волны Морфея не выкашивали их ряды одновременно. Чьи-то головы постоянно должны возвышаться… Признаюсь, эту науку мы с товарищами освоили идеально, потому как ни одного из просмотренных за первые полгода службы фильмов я не запомнил даже по названию. В смысле не сейчас не помню, а уже на выходе с сеанса не мог вспомнить. Как, собственно, и содержания.
Справедливости ради скажу, что большинство фильмов, просмотренных позже, уже в бодрствующем состоянии, тоже не произвели на меня впечатления. Видимо, кто-то очень изощренно-талантливый отбирал и распределял киноленты по частям воюющей 40-й армии для просмотра 18 — 20-летними бойцами. Помню, например, как, уже отслужив года полтора, тем не менее, из последних сил боролся с не подобающим «дедушке» сном на «Женитьбе Бальзаминова». Хотя смотрел потом — вроде хороший фильм, актеры шикарные, все дела. Но, видно, всему свое время и место…
Однако я отвлекся. Короче, к моменту попадания в госпиталь кино для нас с Пахомом практически перестало существовать как искусство. Исключительно как возможность похрючить в относительном покое. Поэтому и первое время в госпитале никакого интереса к нему мы не проявляли — спать и так получалось достаточно. Но, пробыв в госпитале пару недель, мы оказались в команде выздоравливающих. В ней оказывается большинство бойцов, которым уже не нужен постельный режим и особый уход, но которых еще рановато выписывать. Субъектов из этой команды используют на всевозможных подсобных работах в госпитале.
Уж не знаю, чем мы приглянулись дембелю, который заруливал этой командой, но после нескольких «разовых акций» он командировал двух изрядно похудевших «шнуров»-москвичей на суперблатное местечко — в столовую, где питались работавшие в госпитале гражданские специалисты.
Если госпиталь был раем, то гражданская столовая стала для нас райским садом. Тетка, рулившая там, сильно нас полюбила и всячески старалась облегчить жизнь двум заморышам. (Дай ей бог здоровья!) В отделении можно было вообще не появляться. Мы и не появлялись — жили там же, в столовке, поближе к «хавчику» и подальше от проблем в виде более старших по призыву воинов-интернационалистов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу