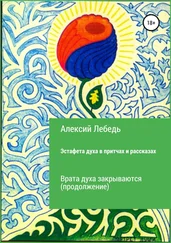* * *
Праздник не удался. Задумчивые пони, тщетно поджидавшие маленьких двадцатикопеечных наездников, разошлись по конюшням. Продрогшие лебеди попрятались в своих надводных будках, почему-то напоминающих собачьи, оставив пустынной закипающую под дождем поверхность пруда. Ветер принес охапку листьев и бросил на наш стол рядом с пустыми стаканами. За соседним столиком съежилась пожилая пара, но через несколько минут и ее сдуло. Праздник не удался. “Закрыли мое шапито”. И нужно было побыстрее проваливать из этого застывающего пейзажа, чтобы не стать его частью, как те старик со старухой (не наши ли соседи по кафе?), которых Женька позже двумя штрихами впаял в эту картину:
Цветы увядают,
И, словно подбитые птицы,
Старик со старухой
Сидят в опустевшем кафе.
Мы еще посидели немного, словно ожидая, не вернется ли лето, а после побрели в сторону Ботанического сада, вдоль маленького зоопарка, по пустой, продуваемой насквозь аллее. И это был уже не просто ветер. Это было очередное дыхание бездны, отступившей было под лучами короткого лета. И Женька вдруг остановился и как-то опасливо обменялся взглядами с двумя вымокшими у своего загона волками. Нас отделяла крашеная металлическая сетка, и неизвестно еще, кто из нас был в загоне. Нас отделяла такая прозрачная граница.
* * *
Поезд медленно отползал от перрона Курского вокзала, с трудом раздвигая клочья сумеречного тумана. За окном как раз повалил грязный московский снег, и было видно, как он тут же, едва достигая земли, превращается в месиво, в черную жижу, налипая на подошвы пешеходов и шины автомобилей. Столичный декабрь, как это повелось в последние годы, был мрачен — ни зимы, ни осени, одна грязь.
— Мы становимся южной страной, — уверенно сообщил Рейн. — Такую зиму я видел на севере Италии. В Венэции. Это открывает большие перспективы.
Он именно так и говорил — “в Венэции”, через “э”. Я не понял, какие перспективы он имеет в виду, потому что за окном перспектива открывалась не очень радужная. Недовырубленные перелески сменялись мрачными глухими заборами и закопченными снизу доверху трубами мертвых заводов. Непролазная грязь пожирала унылые поселки с едва тлеющими огоньками фонарей. Огромная унылая Россия давилась мраком собственных дорог. Поезд трясло на стыках.
* * *
Между тем ощущение, что я все время куда-то опаздываю, не оставляло. Пока стоишь на месте — все нормально. А стоит начать движение, стоит раздвинуть пространство, как сразу начинаешь опаздывать. Это как вечная гонка за убегающим горизонтом. И дело даже не в допотопных поездах, которые постоянно задерживаются, простаивая на полустанках. Дело в том, что где-нибудь посреди пути вдруг начинаешь испытывать острое беспокойство, как будто поезд не просто опаздывает — он какой-то вчерашний или позавчерашний, а то и вовсе движется не в том направлении. Или вообще без направления. И понятно, что надо спрыгивать, но боязно. Да и суетно все это. А поезд все ближе подбирается к очередному тупику. И пространство опять, в который уже раз, вопреки всем законам, оказывается замкнутым.
* * *
В тамбуре, куда я вышел покурить, ко мне приблизился чернявый мужик с потухшей сигаретой. Несколько секунд он в меня вглядывался, а потом, радостно всплеснув руками, заговорил по-армянски. Вычислил своего.
— Хаес? — спросил он.
— Че! — разочаровал я его специально заученным словом. — По-армянски я не понимаю.
Чернявый страшно удивился. Но, вглядевшись попристальнее, быстро изменил свое мнение.
— Неужели грузин?
Грузином я тоже не был, а потому продолжал смотреть в окно.
— Ну что ты там смотришь? — не отставал мужик. — Таинственную русскую душу ищешь, да? Там нет. Знаешь, что такое душа? Душа — это солнце на небе. Да. У нас, в Армении, на небе есть солнце. Поэтому никто не ищет душу. Здесь солнца нет, и все ищут душу. Приезжай в Армению, я тебе покажу душу.
— Зато у вас нет моря.
— Моря нет, — согласился он. — Пока нет. Может быть, еще будет.
А я помнил, что море уже было. Сентябрьское море играло барашками, и тысячи солнц, перепрыгивая с волны на волну, заливали берег. А вдоль берега, как раненая чайка, ходил тощий, немного сгорбленный человек, вглядывался в волны и выкликал: “Лиля! Лиля!” И это звучало как “гули-гули”. Будто он скликал голубей. А она все не выходила из воды. И он звал, звал. И она вышла.
Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся — душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог.
Читать дальше





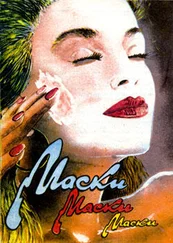
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)