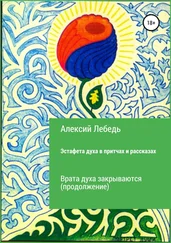Ефим Бершин Маски Духа
Здесь есть возможность читать онлайн «Ефим Бершин Маски Духа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Книги. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ефим Бершин Маски Духа
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.33 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ефим Бершин Маски Духа: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ефим Бершин Маски Духа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ефим Бершин Маски Духа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ефим Бершин Маски Духа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Впрочем, Жданов-то — с Алтая. А у них там другой менталитет. Там Бия с Катунью сливаются. Я раз был. Глянул — точно, сливаются. Аж зажмурился от восторга, глаза закрыл. А как открыл — опять сливаются. Ну, думаю, дела. Совсем другой менталитет.
Не то что у наших, у равнинных. Подходит ко мне один здоровенный поэт из моего так называемого семинара и сообщает, что он в Тульской области бригадиром на стройке работает и у него уже сорок девять сборников стихов вышло.
— Как это? — поразился я. — Столько не бывает. Даже у Пушкина было меньше, не говоря о Лермонтове.
— Так я, — говорит, — всем на день рождения пишу, на свадьбы, на похороны и на нарождение детей. Это раз. Объект если новый сдадим — тоже пишу. А лишнего не пишу.
— Ну а издаете-то как?
— А мне прораб, когда наряды закрывает, отдельной строкой на книжки выписывает. Вместе потом и обмываем.
— Сюда-то, простите, как попали?
— Так и попал. Чин-чином. Направление на стройке выдали. Да вы не сомневайтесь, мы в долгу не останемся. И позвольте, так сказать, отблагодарить за ваше полезное нам занятие. Не сочтите за взятку, так сказать. Это мы от уважения. — И сует мне, сучара, жареную курицу в газете.
Не-е-т! Больше с поэтами, да под одной крышей — ни за что.
* * *
Так вот, об Алтае. Нагляделся я тогда, как Бия с Катунью сливаются, и аж захмелел от красоты. И спустился, помню, с Алтайских гор в город Бийск. Иду по улице, а возле забора — девочка, маленькая такая, лет пяти. Пузан такой. Глазки большие, серые, а платьишко длинное, до пят. И козу пасет.
— Ты зачем, — спрашиваю, — девочка, козу пасешь? Может, ей это не полезно вовсе.
— Ты, — отвечает, — дяденька, коль выпил, так и иди. А если хочешь, дай для козы конфетку.
— Для чего козе конфетка? Может, это для тебя?
— Нет, мне мама не велит. А козе дай. У нее молоко слаще будет. Сами мы не местные, приезжие мы, издалека. Там у нас трава была сахарная, коза и привыкла. А здесь такой нет. Так дашь конфетку? Я тебе за это стишок прочитаю: “Ich weiss nicht was soll es bedeuten das ich so traurig bin...”
Ни фига себе, думаю, девочка. Немка, что ли?
— Это кто написал? — спрашиваю.
— Пушкин.
— Как это — Пушкин?
— А у нас все Пушкин написал. Так дашь конфетку?
— Нету у меня конфетки.
— А нету, так и иди себе.
Я и пошел.
* * *
Иду вслед за друзьями к площади Вогезов. Они о чем-то своем говорят, по-французски, а я себе свое по-русски думаю. Потому что Пикассо, будь он неладен, настроил меня на философский лад. А мы как раз от него идем. То есть из музея. И вот я думаю, что поэт обязательно должен скрываться, как вор. Опознанный поэт — уже не поэт. Не зря критики все время норовят поэта раздеть догола. Правда, у них это не всегда получается, даже почти всегда не получается, но от этого желание раздеть поэта меньше не становится. Бывает, разденут, казалось бы, полностью, все потроха, как рентгеном, просветят, глядь — а он уже во что-то другое вырядился. Но опасность есть. Опасность всегда есть. Ваня Жданов, наверно, тоже ее почуял, потому на Курицына и ополчился. Зазеваешься — не только разденут, но и съедят. И не только ухо. Нет, поэт должен все время прятаться. Cинявский, кстати, так и делал. Ему в квартире специальную щель для этого Розанова соорудила. Как увидит, что к нему домой какой-нибудь критик направляется или даже литературовед, — сразу в щель уходит. И вроде как нету его. Со стенкой сливается. А со стенки много не возьмешь.
Так вот, выходим мы на площадь Вогезов. По-ихнему Пляс де Вож. Друзья, как я уже говорил, увлеклись и о чем-то своем говорят, а я о своем думаю. А площадь эта, надо сказать, — сплошной Гостиный двор, как в Питере. Одни витрины с манекенами. А рядом с одной витриной на стенке мраморная доска висит, на которой написано, что здесь жил Виктор Гюго. Я аж остановился от неожиданности. Ну ничего себе! Идешь себе, идешь, о своем думаешь — и тут Гюго. “Собор Парижской богоматери” и прочие “Отверженные”. Остановился я от неожиданности и вдруг вижу, что окно витрины слегка приоткрыто. Видать, манекены меняли. Ну мне любопытно и стало. Протиснулся я в щель между стеклом и стенкой и залез в витрину. Голову чуть набок склонил, руку в локте согнул и вперед вытянул, будто милостыню прошу. И так стою. Любопытно же. Сейчас, думаю, друзей-то и разыграю. И тут чувствую, что на меня сзади кто-то плащ набрасывает. Но не шевелюсь, чтоб не поймали. Тогда на голову еще цилиндр нахлобучили, а в другую руку трость сунули. И бирку с ценником на грудь повесили. Как медаль. И витрину захлопнули. Стою как идиот, а на меня уже люди пальцем показывают.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ефим Бершин Маски Духа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.





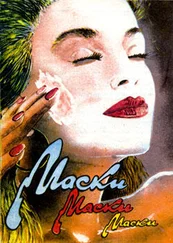
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)