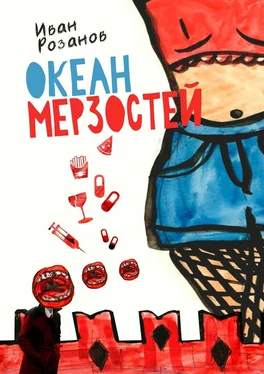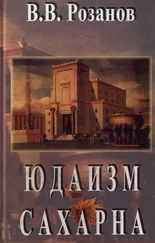Она пригласила меня к себе домой. На горизонте замаячила звезда пленительного счастья. Может, всё сегодня сложится? Интересно было бы, но пусть женщина сама решит. Иван Андреевич – мужчина покорный.
Жилище было у неё просторное, в лаконичном стиле, без типичных девичьих приблуд фетишизма и украшательства. Ко всему Алиса подходила с перфекционизмом рафинированного минималиста.
Я обнял Алису за узкие плечи. Мне нравился запах её волос.
– Извини, сегодня меня нельзя трогать. Я не хочу. У меня тоже есть личное пространство. Ты мальчик умный, взрослый уже. Должен понять.
Взрослый мальчик всё понял. Причина её просьбы наверняка та же, что и у Надиных ночных колик. Я продолжал на дистанции наслаждаться её эстетикой, пребывая в состоянии интеллектуальной эрекции. «On boit un coup on s’encule?» 10, вопрошал у нас вечер; мы, отвечая ему, решили всё же сперва выпить.
– Запомни: со мной интересно общаться, спать, пить, есть… Всё со мной интересно! – сказала Алиса, поглаживая мои колени. Её слова были хороши и походили на стихи, но были слишком правдивы для поэзии. Алиса знала себе цену и была в своей самооценке права. Мы пили куантро и после выпитого было много умных и красивых речей за моим авторством.
– Когда я была студенткой, Иван Андреевич, я тоже любила всякие там «-измы».
Всё-таки, у нас была разница в возрасте. Наверное, мне стоило немного гордиться тем, что такая женщина, как Алиса, проявляла ко мне внимание и интерес. Была в ней порода. Был в ней класс.
– Я хочу тебя наградить. Хочешь косячок?
– Нет, спасибо.
– Может быть, дорожку?
– Пожалуй, откажусь.
– Ты такой худой… Нет, не худой: очень изящный. Мне нравится.
Несмотря на данное мною обещание не нарушать личное пространство, я обнял Алису; классные же у неё бёдра; мы отражались в зеркале; куантро гуляло по нашим сосудам; мы хорошо смотрелись вместе – и меня объяло приятное чувство, что мы уже когда-то и долго, наверное, до сейчас, были вместе. Время не имеет значения; за суетою дней и дрожью членов в тени рекламных билбордов в наш век внутривенного постинора движение стрелки часов не особенно-то было заметно.
На последнюю электричку я уже опаздывал; жаль, не испить мне пива в тамбуре. Усаживая меня в таксомотор, Алиса быстро, но нежно поцеловала меня в губы, будто бы извиняясь за то, что не было у неё в тот вечер настроения общаться со мной близко. Таксист мне улыбнулся.
– Вы смотрели «Левиафан»? – спросил меня мужчина за баранкою авто.
– Я вам больше скажу: я работал в команде сценаристов, – ответил я.
Киноленту эту я не смотрел и сценариев не писал. Вся жизнь выходила содержательнее всего это замшелого, но в тоже время всё ещё модного постмодерна 11, сотканного липкими мохнатыми лапками проевшихся насквозь осклизлых паучков-оппозиционеров с толстыми, набитыми пустыми амбициями, волосатыми брюшками. Только вот искусство казалось реалистичнее действительности. Поверить в сцены «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини мне было проще, чем поверить в собственный день, особенно в день грядущий. Эстетизм Алисы и нежность Нади были будто бы вечны; меня же ещё и не было. Я не мог принять окружающую действительность по причине кричащей посредственности большинства окружавших меня людей; действительность не могла, в свою очередь, принять меня – слишком уж я выделялся, слишком уверенно я играл роль un mouton noir. 12В то же время я был слишком изящен и чересчур прекрасен, чтобы пытаться что-то изменить, чтобы пытаться бороться; я слишком хорошо понимал происходящее вокруг меня и в умах людей, чтобы вообще существовать .
В такси я подумал, что к Наде я сегодня не заеду. Я устал. Москва окружала меня пёстрыми пятнами. Сияли билдборды. На роскошных авто рассекала лимита. Святым библейским Пятикнижием вставали высотки Нового Арбата. Я любил Москву настолько, что готов был стать частью её экосистемы и ничем большим. Из подворотен тянулись косматые эпохи: поп тряс бородою в крестный ход, стрелец нёс свой бердыш, с наганом бежал красный комиссар. И всё там же сбивали с крыш фашистские бомбы-зажигалки, ликовали от постижения космоса, пили «Агдам» и призывали голосовать за Ельцина, стреляли в журналистов и отжимали деньги. В веренице исторических эпох плакали, смеялись, абортировались и рождались москвичи и москвички. Кресты косились на проевшихся прохожих. Казалось, они ничем не были озабочены; но ведь и они страдали, страдали страдою жизни, не меньше чем я, тоскливый юродивый, всем утомлённый… Иисус Христос страдал и Иван Андреевич страдает вослед за ним… во имя столицы-Москвы-города-героя-первопрестольной-златоглавой-красноплощадной. Москва! Плыли её пятна нескончаемым смешением стилей и ритмов как в джазе. Москва! Москва! Москва! Ууууууу, шуба-дуба…
Читать дальше