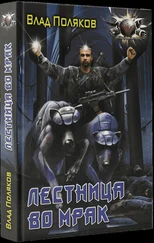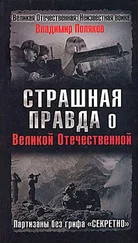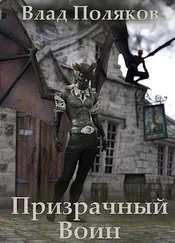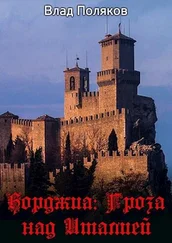Ну, я, конечно, не дурак выпить и пошел. Там в отдельном кабинете сидели двое — этот молодой человек и пожилой товарищ, который все время ругался и обозвал меня негодным маляром, который пачкает какую-то мадонну. Я не маляр и никого не пачкал, честное слово. Потом я играл этим товарищам арию Дон-Жуана опять же Моцарта. Вот эту…
И скрипач сыграл арию. Боря отлично играл, но в это время почему-то открыл глаза и на несколько минут прозрел.
— Слепой! Почему ты глаза раскрыл? — крикнул Толя Цыкин.
— Потому что настоящая музыка раскрывает глаза, — находчиво ответил слепой.
— Продолжайте, — серьезно сказал Бобка.
— А продолжать нечего. Сказали мне «пошел, старик», и я убрался восвояси.
— Почему же вы, Сальери, любя музыку и почитая Моцарта, а слепой играл именно Моцарта, не захотели слушать его музыку?
— Повторяю вам — я обожаю музыку. Я ведь «поверил алгеброй гармонию», но слепой скрипач в трактире — это профанация искусства. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери.
— Ясно, — сказал Рабинович. — Попрошу пройти сюда покойного Моцарта.
Сальери содрогнулся.
Я бодро подошел к судье.
— Вы — Моцарт?
— Да, покойный, — сказал я.
— Как же вы, если покойный, находитесь здесь?
— Настоящая музыка живет вечно, — ответил я.
Это была Бобкина находка, и Мария Германовна была очень довольна. Это было видно по ее лицу. Она радостно улыбалась.
— Ваши отношения с Сальери?
— Самые хорошие, дружеские.
— Как же он вас отравил?
— Кто?
— Сальери.
— Вы говорите чепуху.
— Вы слышите? — закричал Сальери. — Я не мог этого совершить! Это клевета!
— Гражданин Сальери, вы в суде. Прошу не разговаривать. Вам будет дано последнее слово.
— Почему последнее? — закричал Шура.
— Тише!
И судья ударил кулаком по столу.
— Странная манера вести заседания, — сказал Сальери.
— Значит, вы не верите, что он вас отравил?
— Конечно, нет.
— И вы не заметили, как он вам что-то подсыпал в ваш бокал?
— Не заметил. Я весь был в своем Реквиеме. Помните?
Я сел за рояль и сыграл «Турецкий марш».
— По-моему, если я не ошибаюсь, это «Турецкий марш», — сказал Бобка.
— Вы правы, — заметил я. — Но я исполнял «Турецкий марш», а думал о Реквиеме. Так бывает у нас, композиторов. А мой черный человек мне день и ночь покою не дает…
И тут вышел Монька Школьник в черном клеенчатом плаще. Постоял и ушел.
— Ясно, — сказал Бобка. — Значит, вы отрицаете факт отравления.
— Полностью! — крикнул Навяжский. — Мало ли кто что говорит. Нельзя верить всем слухам. Честно говоря, я завидовал Моцарту, его гениальности и способности легко и быстро писать. Но я глубоко чтил Моцарта, и я бы никогда не посягнул на его жизнь, не лишил бы мир такого гения.
— Ясно, — сказал Бобка и посмотрел на Марию Германовну. Она кивнула головой, и он сказал: — Достаточно. Прошу свидетелей выйти. Слово имеет защитник Леня Селиванов.
Селиванов вытер глаза платком с надписью «Ленечке от мамы».
— Не могу без слез смотреть на этого старого, усталого человека, — сказал он, кидая взгляд на сосущего карандаш Сальери. — Преодолел он ранние невзгоды и ремесло поставил подножием искусству. Он стал ремесленником, а Моцарт парил херувимом, с поразительной легкостью сочинял свои опусы, и, конечно, в душе Сальери зародилась зависть. Вы поглядите, как он грызет карандаш. Меня интересует одно: действительно ли он бросил яд в вино? Кто это видел, товарищи? Откуда мы это узнали? От Пушкина. Пушкин, конечно, величайший поэт, он создал поразительной силы образ Сальери, в котором черная зависть заполнила весь сальеревский организм и толкнула его на преступление. Но где взял Александр Сергеевич эти факты? Прочел в газетах того времени? Нет. Услышал от очевидцев? Не было очевидцев. Беседовал с врачами, присутствовавшими на вскрытии Моцарта? Не было такого вскрытия! Может быть, прочел дневник Сальери? Сальери не Элла Бухштаб, и он не писал дневников. Значит, это родившаяся легенда, а попросту сплетня. Она дала возможность Пушкину написать блестящую трагедию, заклеймить страшное чувство зависти, противопоставить талант ремесленничеству, доказать, что дело не в алгебре, которую, видимо, Моцарт не любил так же, как я, но маленькая трагедия Пушкина не может еще являться обвинительным актом Сальери. Вы посмотрите на этого несчастного, как он переживает!
Все обернулись и увидели, что Шурка плачет настоящими слезами. Он натер луком глаза, и у него текли слезы.
Читать дальше