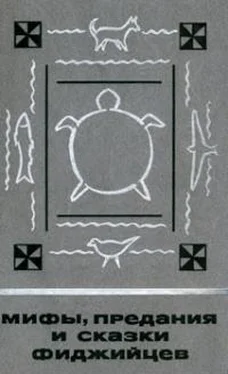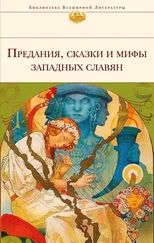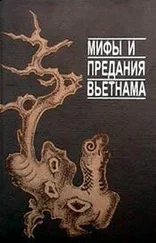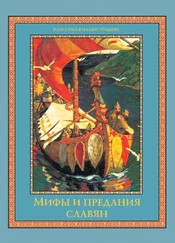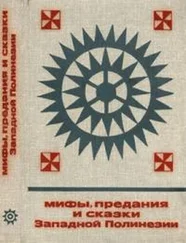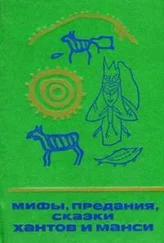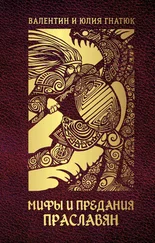Без понимания того, что такое в традиционном фиджийском обществе обряд посвящения, трудно оценить глубинный смысл часто повторяющегося сюжета об изгнании людей с гор Кау-ванд-ра (см. здесь № 2, 3). Пока дети (или подчиненные) Нденгеи были малы и в прямом смысле и в переносном (т. е. были ему покорны), он держал их при себе. Когда же они прошли обращение в мир взрослых — убив чудесного помощника Нденгеи, сладкопевца Туру-кава, — им надлежит уйти и искать себе новый край. На первый взгляд удивительно, что Нденгеи, умеющий жестоко карать за ничтожную провинность, ни в одной из версий этого сюжета (ни в дохристианских, ни в испытавших библейское влияние) не убивает виновных. Тайна в том, что они, пройдя посвящение, становятся равны ему, и самое большее, что он может сделать, — это изгнать их прочь.
Особый взгляд на вещи необходим и для восприятия смешного: "этнография юмора" едва ли не самая показательная черта всякого народа, отличающая его от других. Сказки-анекдоты о свинье и собаке, крысе и собаке, фиджийский вариант сказки о лисе и журавле (№ 125), едва ли способные вызвать улыбку у тех, кто смеется над приключениями Мики-Мауса, для фиджийцев, даже в наши дни, потешнее любых комиксов.
Архитектоника фиджийского рассказа обычно повторяет ход событий, не обгоняя их; впрочем, в начале текста нередко говорится, чем он должен кончиться. Для многих фиджийских текстов, поэтических и прозаических, как это справедливо замечено Б. Н. Путиловым [14], характерны формульная повторяемость и параллелизм. К этому можно добавить общеокеанийскую тенденцию к избеганию имен персонажей — будучи введен в текст под некоторым именем, герой дальше, насколько возможно, называется "он", "этот", "тот" (ср. [12, с. 26]) — и склонность аутентичных текстов к тривиальному предварению прямой речи словом "сказал" или "ответил", а не более изящным синонимом. (Надо заметить, что и восприятие стилистического однообразия у пародов Океании далеко отстоит от европейского.) Здесь, впрочем, мы подходим к новой теме.
* * *
Фиджийский фольклор записан досадно плохо и бессистемно, много хуже, чем фольклор других островов Океании. Этому трудно найти какое-то одно строгое объяснение; причин было несколько. Здесь и быстрая аккультурация фиджийцев, и чисто "потребительское" отношение первых европейцев, даже самых честных и образованных, к их языку (фиджийских текстов религиозного содержания, переведенных европейцами в прошлом веке и в начале нашего, предостаточно, ср. [88, с. 206-211]), и необозримость архипелага для фольклориста-подвижника. Эти и, возможно, другие причины привели к тому, что фиджийский фольклор оказался записан в основном на европейских языках, и в первую очередь по-английски, что, естественно, и затрудняет его изучение, и делает любые заключения о нем неокончательными. Многие переводы беллетризованы, что еще более удаляет нас от исходного материала. Поэтому к текстам, собранным в этой книге, следует относиться как к показательным более всего в отношении сюжетики, в меньшей мере в отношении структурных особенностей и, наконец, как к недостаточно достоверным в отношении стилистики фиджийского фольклора (для прозаических текстов, видимо, уже безвозвратно утраченной).
Отсутствие сколько-нибудь системного, профессионального взгляда на фиджийский фольклор привело к тому, что какие-то сюжеты, интересные с европейской точки зрения, похожие на привычные и, наконец, просто насыщенные событиями, фиксировались, а какие-то оставались в полном небрежении. Результат такой работы — картина фиджийского фольклора, доставшаяся XX в., с многочисленными лакунами и неожиданно большим числом вариантов некоторых сюжетов (в особенности это касается сюжетов о Нденгеи, меньше — о Ндау-зина): европейцы следовали одним стереотипам и к тому же шли друг за другом географически. Здесь мы открываем в анализе фиджийского фольклора еще одну трудность. До середины XX в. Фиджи рассматривалась как единое культурное целое (простая мысль о том, что обобщения, сделанные в одной части архипелага, могут и не распространяться на все острова, впервые сформулирована в [89, с. 3 и сл.]). Во многих старых описаниях Фиджи не уточняется, где именно зафиксированы те или иные сюжеты, какую местность описывает автор. Даже если не реконструировать все это, очевидно, что большинство исследователей Фиджи работали преимущественно на востоке архипелага. Наилучшим образом изучены два крупнейших острова и острова Лау, наименее известна культура запада Вити-леву и островов Ясава. Культура побережий долгое время оставалась единственно знакомой европейцам: необходимость изучения горных обществ пришла позже (ср. [23] — книгу, революционную для своего времени) .
Читать дальше