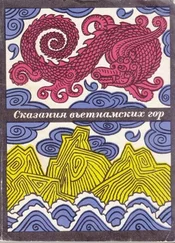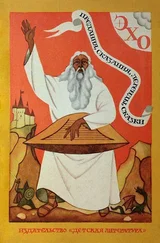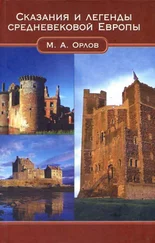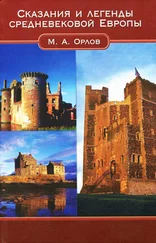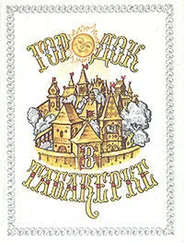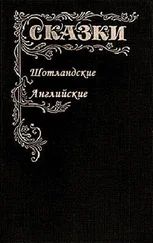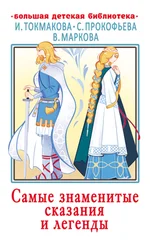Историко-патриотической тематике посвящены сказания о трехстах арагвинцах, предания о спасении сокровища, ответе Эристави и легенда о грузинке, погибшей при взятии иранскими завоевателями Тбилиси 11 сентября 1795 года.
Несметные полчища врагов зарились на Грузию. Кто только ни замышлял покорить эту страну, а то и вовсе стереть ее с лица земли. Римляне, персы, арабы, монголы, турки, сельджуки, горские племена Кавказа чуть ли не состязались друг с другом в том, чтобы разорить Грузию, опустошить ее, согнать с земли наших предков, пленить их и вывезти на невольничьи рынки. Но постоянные войны не сломили патриотов, не обессилили их десницы. Печаль и страх, следовавшие за пережитыми потрясениями, сменялись новой надеждой, что прикованный Амирани разобьет цепи и, став плечом к плечу с народом, поможет ему в справедливой борьбе. Все легенды и сказания грузинского народа пронизаны высоким патриотизмом и чувством благородного мужества. Примером этому может служить сказ о мужестве грузинки в тяжелую годину нашествия иранских полчищ. Разбойничьи орды Ага-Магомет-хана огнем и мечом завладели столицей Грузии. Царь Ираклий II с небольшим отрядом поспешил к крепости Ананури. В Нарикале путь врагу преградила грузинка мать с грудным ребенком на руках. Муж ее лежал на Крцанисском поле, сраженный вражеской саблей. Палачи убили грудного ребенка на глазах у матери, ее же полонили, сохранив женщине жизнь только из-за ее несравненной красоты. Ее отвели к шаху, который велел продать пленницу Джафар-бегу. Грузинка сказала Джафар-бегу, что она может обезвредить кинжал, который, якобы, сулит ему смерть. Джафар дал ей кинжал. Пленница неторопливо взяла его, поднесла к губам, будто произнося заклинание, а затем, приложив оружие острием к собственной груди, предложила полководцу-мусульманину убедиться в том, что кинжал стал безопасен. Джафар-бег ударил кулаком по рукоятке кинжала — и сраженная женщина упала к ногам завоевателя. Так грузинка сберегла свою честь, так избегла она гаремной неволи!
Сюжет этой легенды не нов. Его знает греческая агиография и литература нового мира. Достаточно вспомнить, что эту легенду мы находим в агиографическом памятнике «Мученичество девы Ефросии» (302 г.). Сочинение упоминается и в «Менологе» Василия II (976–1025). Перевод его на грузинский язык сделан Георгием Святогорцем, внесшим этот перевод в свой «Свинаксар» в 1042–44 гг. Существует также распространенная славянская редакция этого сочинения. Весьма схожий эпизод можно найти и в произведении Антиоха Стратига «Пленение Иерусалима», которое имело место в 614 году. Перевод с арабского на грузинский язык сделан в X веке. Этот сюжет имеется и в новой литературе: в Италии — в «Неистовом Роланде» Л. Ариосто (1474–1533), в Америке — в «Потерянном образе» Дж. Лондона (1876–1916), а в Грузии дан в виде эпизода в повести А. Церетели «Баши-Ачуки», Оно существует в греческой, арабской, грузинской, славянской, итальянской, американской литературе. Корни этого сюжета вряд ли были литературными, скорее тут мы имеем дело с устной традицией.
Заслуживают внимания предания этиологического характера, объясняющие появление лозы, вина, различных музыкальных инструментов. Всюду события переданы в реалистических красках и характеризуют с какой-либо стороны прошлое народа, его культурный и экономический быт.
Мировоззрение народа отражено в художественных образах, закреплено в мудрых изречениях, пословицах и поговорках. Краеугольным камнем мировоззрения масс является труд, которому посвящены замечательные образцы фольклора различных жанров. Землепашец верит, что пшеничное зерно раньше было величиной с сердцевину ореха («Пшеничное зерно»). Согласно сказанию об Амирани, зерно возникает из почвы, которая орошена человеческой кровью. Поэтому Амирани старается разбить цепи и освободиться, чтоб добыть человечеству хлеб без примеси крови и сделать пшеничное зерно величиной в орех.
В одной из народных повестей философия жизни сформулирована так: «Кто сделал дело, тот может есть». В этом смысл общественного труда, его облагораживающая природа.
В заключение необходимо коснуться также еще одной группы образцов народной прозы, которые по жанровым признакам не являются чистым сказанием. Здесь речь идет о поисках смысла жизни. Народный певец знает, что все существующее преходяще, что в мире нет ничего неизменного. Безмятежное счастье не досталось и соловью, который в саду услаждал всех своим пением, — змея разорила его гнездо. Но и она была наказана — ее убил садовник, косивший траву. Однако и садовник поплатился за убийство змеи — вскоре он предстал перед судом и избежал виселицы только благодаря тому, что открыто выразил суть жестокого закона жизни: «И тебе так просто не сойдет это, о царь!».
Читать дальше
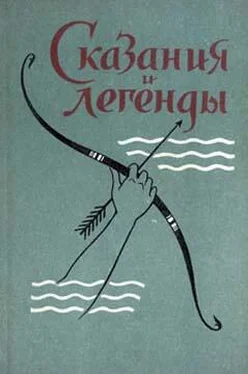

![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)