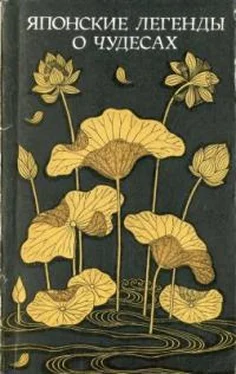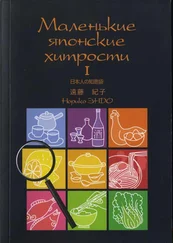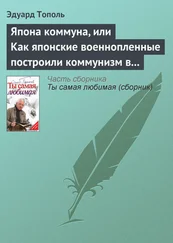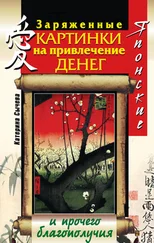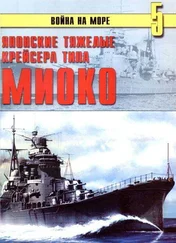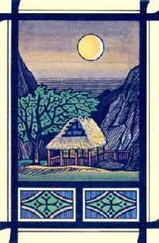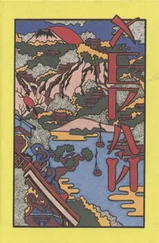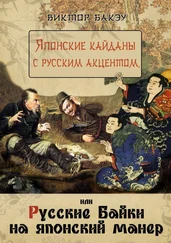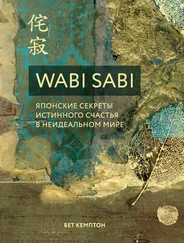Разумеется, в кратком предисловии к еще более кратким преданиям, которые выносит переводчик на суд читающей публики, невозможно даже мимоходом коснуться всех вопросов, возникающих при знакомстве со средневековой «духовной» литературой. Поэтому мы постараемся ограничиться рассмотрением одной, но, вероятно, самой главной проблемы — проблемы человека, его мироощущения и идейных поисков.
Но сначала о трех источниках, послуживших материалом для этой книги. Итак, перед нами «Записи о стране Японии и чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела» («Нихон гэмпо дзэнъаку рёики», или сокращенно, «Нихон рёики», составлены на рубеже VIII—IX вв., 3 свитка, 116 историй) [2] Перевод пяти историй см.: Л. Н. Мещеряков. «Легенды из “Нихон рёики"». — «Народы Азии и Африки». 1981, № 3.
; «Записи о вознесении в Край Вечной Радости» («Одзё гокуракки», конец X в., 1 свиток, 42 истории) и «Записи о чудесах “Сутры лотоса" [3] Санскр. «Саддхарма-пундарика сутра» один из основных священных текстов буддизма Великой Колесницы (махаяны).
, сотворенных ею в великой стране Японии» («Дайнихонкоку хокэкё кэнки», сер. XI в., 3 свитка, 129 историй) [4] Два последних памятника на русский язык не переводились. Несколько легенд из более поздних буддийских сборников были переведены В. С. Сановичем и Т. И. Редько, см. «Восточный альманах». Вып. 1. М., 1973; «Классическая проза Дальнего Востока». М., 1975. Многие вопросы, связанные с развитием буддийской прозы в Японии, рассмотрены Г Г Свиридовым в книге «Японская средневековая проза сэцува». М., 1981.
. «Нихон рёики» принадлежит кисти монаха Кёкая; истории «Одзё гокуракки» записаны мелким чиновником Ёсисигэ-но Ясутанэ (принявшим впоследствии постриг иод именем Дзякусина); автор «Хокэ кэнки» — монах Тингэн.
Как говорилось выше, применительно к раннесредневековым легендам еще невозможно говорить об авторстве в полном смысле этого слова. Составители и не претендовали на него. Кёкай утверждал, что он лишь передает рассказы людей: Ясутанэ ссылается на летописи и жития как на источник своих записей, а Тингэн обосновывает необходимость своего труда по сведению преданий о «Сутре лотоса» в одной книге тем, что «в исторических сочинениях найти их затруднительно, а в передаче людей они легко утрачиваются».
Средневековое общество невнимательно к судьбам своих «авторов». Сохранились некоторые данные лишь о жизни одного Ясутанэ. О Кёкае и Тингэне мы знаем только, что первый был монахом в храме Якусидзи, а второй жил возле часовни Сюбогэн. О Ясутанэ можно сообщить несколько больше. Он родился в 931 г Его учителем был знаток китайской литературы Сугаварано Фумитоки (899—981). Долгие годы Ясутанэ служил регистратором государевых указов во дворце. Приобщением к культу владыки рая будды Амиды (Амитабхи) он обязан «Обществу поощрения учености» («Канга-куэ»), чьи участники проводили время в молитвах о перерождении в Краю Вечной Радости, сочинении стихов на китайском языке, изучении «Сутры лотоса». В 982 г. Ясутанэ заканчивает «Записки из павильона у пруда» («Титэйки»), в которых он воспевает царедворцев, посвятивших свою жизнь молитвам Амиде, придворным церемониям и изучению премудрых книг. Считается, что «Одзё гокуракки» увидело свет в 984 г., а в 985 г Ясутанэ принимает монашество и нарекается теперь Дзякусином. Вместо упраздненного «Общества поощрения учености» Ясутанэ вместе с одним из крупнейших религиозных деятелей своего времени, Гэнсином, основывает «Общество двадцати пяти способов созерцания» («Нидзюго саммайэ»). Умер Ясутанэ в 997 г.
Безусловно, у каждого из авторов — составителей рассматриваемых нами памятников имелись свои литературные пристрастия, основанные прежде всего на общей идейной направленности их миропонимания. По необходимости кратко формулируя особенности трех произведений, последуем за оригиналом. Кёкай писал в предисловии к 1-му свитку. «Есть алчущие добра храмов Будды — они перерождаются волами, дабы отработать долг. Есть и такие — они оскорбляют монахов и Закон Будды, при жизни навлекая на себя несчастья. Иные же ищут путь, вершат подобающее и могут творить чудеса уже в этой жизни. Тот, кто глубоко верует в Закон Будды и творит добро, достигает счастья при жизни. Воздаяние за добро и зло неотступно, как тень. Радость и страдание следуют за добрыми и злыми деяниями, как эхо в ущелье. Кто-то видит и слышит об этом, удивляется, сомневается и тут же забывает. У тех же, кто стыдится своих грехов, с болью бьются сердца, и они спешат скрыться. Если бы карма [5] Карма — здесь совокупность добрых и злых деяний человека в прошлом рождении, определяющих его судьбу в будущих рождениях.
не указывала нам на добро и зло, то как тогда исправить дурное и отделить добро от зла? Если бы карма не вела нас, то как было бы возможно наставлять дурные сердца и шествовать дорогой добролюбия?»
Читать дальше