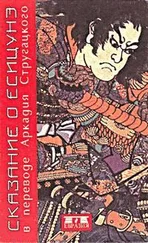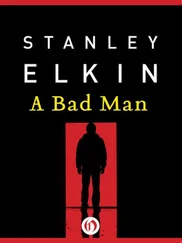Но всё это было позже, а в тот день Смилина с Изяславой назюзюкались в стельку: отметили скорое пополнение в семействе оружейницы и оплакали волосы княгини. Впрочем, последнее глубокой скорбью не отличалось, Изяслава смеялась над собой, а вот поступок дружинниц оценила высоко.
– Родные мои… Ну, право же, не стоило, – обнимая их за плечи, растроганно говорила хмельная повелительница.
– Как ты, государыня, так и мы, – отвечали те ей торжественно. – Иной доли для себя не хотим.
В состязании снова победила Смилина, защитив своё звание «неупиваемой» (по созвучию с «неубиваемой»), которое было ей присвоено после того памятного пира, когда они с Изяславой связали себя узами сестринства. Оружейница, как единственная оставшаяся на ногах, и разносила потом по постелям сражённых могучим хмелем Сестёр во главе с княгиней.
Смилине очень хотелось снова ощутить грудью детский ротик, но, увы, молока у неё больше не было: видно, годы брали своё. Когда родилась Вешенка, кормить её пришлось Горлинке, но светлое чудо единения со своей кровинкой оружейница всё равно испытывала. Баюкая дочку на руках, Горлинка тихонько пела, а Смилина в это время заключала в объятия их обеих.
– Пташки мои, ягодки мои, – с нежностью шептала она, целуя то жену, то уснувшую у неё на руках малышку.
Их тихое счастье продлилось недолго. Когда Вешенке сравнялось три года, Горлинка начала впадать в странное состояние полной отрешённости: она не отвечала на обращённые к ней слова, подолгу сидела у окна, покачиваясь из стороны в сторону, а кормить её приходилось с ложечки. Такие «провалы» случались примерно раз в месяц и продолжались несколько дней. Приходя в себя, она рассказывала о чудесном мире, в котором ей было легко, светло, просто, где она наслаждалась каждым мигом бытия.
Со временем приступы удлинялись. Горлинка могла выпадать из действительности на две-три седмицы, но во время просветления вела себя, как прежде – пела, хлопотала по дому, возилась с дочкой. Глаза Вешенки рано стали грустными: она понимала, что с её матушкой не всё в порядке.
– Возвращайся поскорее из своего прекрасного мира, – просила она, кладя головку на колени Горлинки. – Мы с матушкой Смилиной скучаем по тебе.
Девочка сама брала безвольную руку матери и гладила ею себя по волосам… Та не отзывалась, словно на земле оставалось только её тело, а душа летала где-то очень далеко. Но она неизменно возвращалась, и их жизнь какое-то время опять текла по-прежнему.
– Почему ты уходишь туда? – спрашивала Смилина. – Разве наш мир не прекрасен?
– Он прекрасен, моя лада, – с грустной улыбкой отвечала Горлинка. – И я люблю его. Но мне в нём тяжело дышать. А там… Там мне легко. Там я летаю, как птица. Я там счастлива. Плох тот мир только тем, что там нет тебя с Вешенкой. Я тоскую по вас… И возвращаюсь.
Во время одного из затянувшихся приступов «отсутствия» Смилина отнесла Горлинку в Тихорощенскую общину и попросила о встрече с Верховной жрицей. Матушка Правдота приняла их у подножья Дом-дерева, на одной из скамеечек нижнего яруса. Тихорощенское солнце сияло короной на медово-русых волосах главной жрицы Лалады, отражалось тёплыми искорками в её небесно-голубых очах, а её пальцы горьковато пахли хвоей и смолой, когда она коснулась лица Смилины в благословении. Сколько ей могло быть лет? И восемнадцать, и тысяча. На девичьем лице мягко улыбались седой вечностью нечеловеческие – божественные глаза. Величаво-спокойная, полная тихой мудрости и какой-то неземной, до мурашек пронзительной благости, Верховная Дева лишь на несколько мгновений заглянула в пустые, застывшие в глубинах небытия очи Горлинки, вздохнула и молвила:
– Да, она здесь не в своём мире. Когда её душа покинет земное тело, я надеюсь, что она попадёт «домой» – туда, где ей будет хорошо и легко. А пока… она страдает среди нас, увы. Каждый день, прожитый здесь, причиняет ей боль. Это затмение рассудка – просто её защита от этой боли, от чуждого и грубого для неё мира. Всё, что ты можешь сделать для неё – это дарить ей любовь. Даже если со стороны кажется, что она не слышит и не понимает, это не так, поверь. Она чувствует всё.
Односельчанки беспокоились, когда Горлинка подолгу не появлялась и не пела, и спрашивали Смилину о ней. Оружейница, хмурясь, отвечала:
– Ей нездоровится.
Это было правдой, но на сердце Смилины висел холодным камнем груз тоски, словно она в чём-то обманывала соседок. Она не могла им объяснить, что происходило с Горлинкой: слова не находились, застывая глыбами где-то на полпути.
Читать дальше