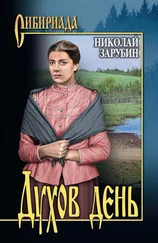Если бы в кровоточивые нечистые ночи сорокадневного великого поста, спросили Кавалера с небес:
- Чего ты хочешь?
Ответил бы, без рассудка:
- Хочу всего. И больше. И сверх того еще чуть-чуть.
Сам себя уверял Кавалер, что скоромные видения происходят от привычки плотно ужинать перед сном, зарекался, но к вечеру забывал зарок, задремывал сытым и снова видел напротив собственное лицо. Отверстые губы - укус змеиный, щеки, будто крапивой нахлестаны. Страшно, Господи, разве не слышишь моей тишины?
Никому, ни духовнику, ни Царствию Небесному, Кавалер о сонной напасти не рассказывал.
Умница.
Когда невмоготу становилось читать и от домашних запахов всерьез мутило, как от постного масла, Кавалер все бросал, и без устали и цели бродил по весенней гулкой Москве, где людно, где торги и работы сочетаются говором барабанным, звоном колокольным, тревога к вечеру томится в переулках.
Тиснув зябкие руки в рукава шубки-шельмовки из тигриного меха, рассекал пригожий гуляка торговые ряды от Никольской улицы до Ильинской, вставали перед пустыми от тоски глазами торговые ряды, Ножевой, Шапочный, Суконный, Сундучный. Зеркальный, Хрустальный и Скобяной. Торговали всем на свете вперемешку: хер голландский, мыло казанское, гарлемские капли, обстоятельные лакейские шинели.
Пробегал с неистовым воплем молодчик с кадушкой на голове, не разобрать было, что за товар у него под сальной тряпкой: моченые яблочки для сухоядного дня, бычьи почки для азиятцев, что поста не блюдут, или никчемный персидский бальзам-клопомор в пузыречках.
Уже не было смысла в бесконечном кружении по городу, но даже смотреть в сторону Пресни Кавалер не решался, щурясь против сильного лесного солнца - а только такое солнце львом или фавном вступало в московские оголенные сады.
Чудилось Кавалеру: каждый встречный знает о том, что сделал он, вот же, вот, скалит зубы, моргает подплывшим от пьянства глазом, или двое шушукаются на углу, сейчас вся улица обернется и гневно указав пальцами, завопит, призовет к русскому самосуду-рукосую:
- Рвите его, православные! Он на Пресне Китовраса с Марусей заживо сжёг, он у царя со стола хлеб украл!
Приступят со всех концов московские обыватели и разорвут заживо ногтями и зубами. Плотские куски, неразжеванные хрящи и медные пуговицы втопчут в навозную жижу.
А потом отпускало и понимал Кавалер - никто не знает о содеянном и не разведает правду вовек. Не горела на виске каинова печать, не шарахались от него дети и кошки в смертной тоске. Раз на Трубной площади гадала ему египтянка - молодая, но уже уродливая, с динарами и лентами в косах, в лоскутном, как ведется у фараонова племени, тряпье. Все ласкала ладонь, приговаривала гортанно: Богатый будешь, счастливый будешь..." Ляжку жирную показывала из-под юбки, на счастье. Кавалер дал ей рубль. Затряслась вся, схватила, как сорока, и за щеку сунула. Не погнушалась. Значит и вещунья, чертова сестра, фараонка - не знает ничего. Тогда Кавалер молча прижал ее к стене, и больно вырвал из левой косы аленькую ленту. Очень ему та аленькая лента приглянулась. А раз приглянулась - значит моё. Отдай.
Цыганка заголосила, монету выронила из карзубого рта в талый снег, а он, не обернувшись, зашагал прочь, рассеянно обматывая аленькую краденую ленту вокруг своего запястья. И от атласного ее прикосновения ноги у него подкосились, ласково и смертно свело ягодицы и бедра - еле устоял. Выше нет наслаждения, чем всеобщее неведение.
Все знают, что я сделал.
Никто не знает, что я сделал.
Нет никакой мзды, никакого урона, ни воздаяния, ни попрека, а даже если бы и были - шлюхи, кошки, псы, бродяги беглые пройди-светы, звонари да юродцы, кто их слушать будет, если князь солжет чистым голосом.
Что ж ты, Господи, медлишь, я ведь даже не захворал, не помрачилось личико чирьем, кудри грузинские не поседели, а на чужой боли, на пепелище чужого убитого и сломанного дома, на обиде невыплаканной поднялся, расцвел, что ячменный колос на жирной могильной насыпи, а Тебе все мало.
Мало...
Мало ли мужичья на Москве по пьяному делу горит!
Уголек на пол из печурки вывалился, лучина в паклю обломила горящий конец, и вся недолга - пошел большой пал, порхнула русская душка в рай, мясо на костях испеклось и отпало ломтями от остова.
Да рано или поздно сам сгорел бы Китоврас, от огня или от вина, моей вины тут на бровный волосок, на куриный голосок. Почитай уж сколько месяцев пальцы холеные паленым не пахнут. К любому холую из Харитоньева переулка, приступи с ножом к горлу, да спроси - где молодой хозяин был в ту заветную ночь, на колени упадет, закрестится, как мельница:
Читать дальше

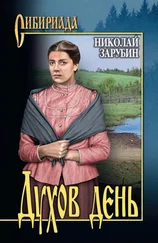

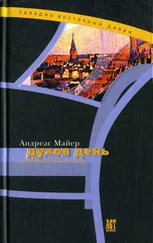
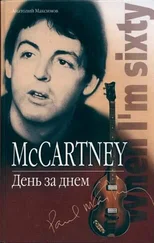

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)