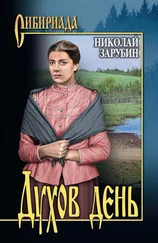- Кто упал и встал, тот крепче не изведавших паденья. - накрепко, как по прописям выводил, повторял Кавалер и ловил тощую руку Царствия Небесного, но ускользал Царствие от рукопожатия и сухо-сухо целовал в середину белого лба, шептал на ухо:
- Слушай! Те святые, что были убийцами и злодеями, изрывали себя по куску и бросали заживо псам, а остановиться не могли, бежали от людских поселений, несли свою скверну за пазухой. Убить себя нельзя, самоубийство грех сугубый, значит, спасаться придется иначе. Но то святые. Совета у меня не спрашивай. Иди, пока живой. Зверь-то, дарёнка мой, тебя любит?
- Любит... - отзывался Кавалер небывалым для него словом. Ему очень хотелось спать. И горбун по имени Царствие Небесное, соскользнув с постели, отступал, приложив к губам костистый палец.
Ранней весной одолели Кавалера знойные сновидения.
В них он по-скотски отдавался единственному человеку - самому себе.
Упирался локтями и коленями в податливые перины, бился запястьями в резное изголовье, закусывал нижнюю губу, с гадливым ужасом осязал хрусткое вторжение снаружи, под копчик. Властно вторгалась ладонь насильника куда надо, и по-сучьи прогибал Кавалер поясницу. Белорыбицей бился Кавалер в соитии, как человечину с кровью грыз, обнаженный, изуродованный содомским мужским натиском себя самого - двойника, луноликого, полного, как и он сам до краев липовым медом и колотым хрусталем.
- Оставь, сволочь! Я ребенка хочу... Хочу быть отцом наконец... - просил Кавалер самого себя, но взамен наложники кусались, рвали друг друга ногтями в исступлении торжествующего бесплодия, сливались, как две бальзамные тягостные капли, перетекали друг в друга, как огородные слизни без костей.
Во сне спальня весело горела, трескались искрами балки потолка в такт самосоитию, шипела и дулась пузырями краска на образах и десюдепортах.
Среди пожара и кропотливой муки не было человеческого утоления похоти, извержения семени, что и скоту и господину доступно.
Оба самодовольных тела были заперты сами в себе и друг в друге, от алчности великой все копили внутри, задыхались от неутоленной злобы и скорби в замкнутом змеином кольце, распадалась душа в подвздошье, одна на двоих.
Опускаясь в скотство високосных снов, Кавалер знал, что двойника нельзя оставить в живых, как бы ни были остры, тесны и сладки его болезненные ласки.
Иногда Кавалер успевал первым, в последней судороге насилия.
Иногда двойник ломал ему шею с капустным хрустом станового, в основании шеи позвонка
На рассвете Кавалер не знал - кто из преисподних близнецов сегодня очнулся в постели один.
- Страшен сон, да милостив Бог, - хрипло проговаривал детский оберег юноша, лениво поворачивался с боку на бок и ронял слишком белую руку на немецкий столик при кровати, в вазу с турецкими сладостями, нашаривал рядом наощупь стакан с водой и табакерку.
Враз вспомнив похотное видение, садился, скорчившись, точно зародыш, на горячей постели, больно стукался лбом в колени. Долго сидел в пустой комнате.
Наутро, коченея от стыда, Кавалер, искал срамные улики излияния семени на простыне, но холостые сновидения не марали белья. Он оставался чистым.
В оконную четвертушку проникал украдкой пресноводный жиденький рассвет. Становились ясны окованные медными стрелками мебельные углы и складки драпировок.
В час шестой Кавалер без милосердия тискал бока и грудь трусливыми пальцами.
Тело его всякий день менялось к лучшему, как воск на жару, уже провожали его изумленными взглядами домашние и прохожие: Батюшки, а молодой - то наш до тошноты хорош, дальше уж некуда, а поди ж ты...
По утрам маялся с тесной отупевшей до похмельного звона головой, не выносил громких звуков и запаха человеческого тела от прислуги, только к полудню приказывал нагреть бадью воды. Всех выгонял, битый час оттирался мочальной скруткой и пемзой, чтобы ни следа позорного не осталось на золотистой коже, докрасна, докрасна, пусть мясо с костей слезет. Готов был Кавалер обварить всего себя с ног до головы крутым кипятком, лишь бы никогда больше не видеть во сне манерного изголовья постели с трубящими тритонами и виноградными гроздьями, кафли угловой печи, где на изразцах голландские рыбаки ловят селедку, а Купидо усмиряет льва любовными тенетами. Вся обстановка: стол, печка и постель, свидетели еженощного падения и кромешной крысиной пытки совокупления.
С каждым днем, как дрожжевая опара, поднималась в утробе Кавалера алчба, аппетиты и бесстыдные страсти раздирали изнутри невыносимыми снами и нелегкой явью.
Читать дальше

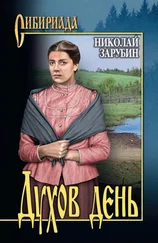

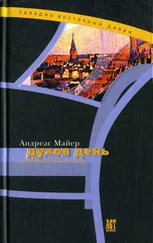
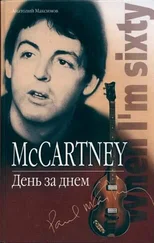

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)