- Действительно ли ты, так называемый Раймон, подходил к людям разного происхождения, в Ньюкасле, Глазго и на землях баронов Арундел?
- Так точно, ваше святейшество.
- Лесть здесь неуместна. Я не Папа.
- Ну, все впереди… - любезно улыбнулся Раймон - Кентербери облизнулся.
- Ты был связан с Моней Цимесом и другими завсегдатаями гостиницы “Святая Вальпурга, искушаемая баклажаном” ? - епископ был сторонником допросов вразбивку.
- Увы, - подсудимый тяжело оперся на перильца скамьи - Заведение под названием “Святая Хродеганга, искушаемая патиссоном” мне известно. А Вальпурга… Первый раз слышу.
- Что ты покупал у твоих клиентов?
- Антиквариат, ваша честь! Сущую бижутерию.
- А вот тут у нас донос - и там ясно сказано - не безделушки, а душу. Между прочим, христианскую душу, заключенную в крещеной плоти! - заволновался Кентербери.
- Клевета, - обиделся Раймон. - У меня есть свидетели сделок. Я невинен, как невеста.
- Мне даже не смешно! И кто же может подтвердить твою невиновность? Кто из уважаемых граждан может поручиться за тебя?
Раймон задумчиво огладил свою ночную редкую бородку.
- Да кто угодно. Вот, хотя бы брат Алессио. Ему правда почти отрезали голову, но память у него до сих пор превосходная. Дельный мальчик. Рекомендую.
- Вы с ума… - задохнулся Кентербери, но его уже никто не слушал.
Страшно, горлом завизжала баронесса де Клер и всплеснув руками, порвала четки.
Писарь поднялся со своей скамеечки и медленно, манерно извиваясь, стянул через голову сутану.
Кошмарную маску раскисшего в болоте лица Алессио праздника ради припудрил, остатки губ жирно очертил малиновой помадой, и теперь, сорвав с головы ошалевшего Кентербери митру, дефилировал вдоль алтаря в золотистом сутенерском фрачке с фалдами едва прикрывавшими вихлявые ягодицы. Лохмотья черных чулок с искрой украшали распухшие ляжки.
Раймон приобнял мертвеца за плечо и рявкнул нечто вроде:
- Дети вдовы, ко мне!
Они вошли в часовню, не страшась святости места, безликие и размалеванные.
Девка Эстер - Посинюшка с надутыми щеками трубачки и голыми
грудями, и Моня Маммон, трясший фальшивыми пейсами, и Плакса, тоже мертвый - когда успел - с непомерно раздутым брюхом, и живым рыбьим хвостом, трепавшимся в пасти его, как второй язык. Висельник - тамплиер, где-то потерявший левую руку и нижнюю челюсть, и верткий тощий Луис с хищными испанскими усиками и бородкой клинышком.
Голая, как сама ночь, Наамах - моя Ноэми - она стала вульгарна и черства, черное мужское молоко сочилось из ее левой груди, она непристойно выгибалась на спине безголовой лошади без седла, а за ней маячил безносый, пролежавший в гробу без малого год, Корчмарь с плоскими зубами на безгубой маске трупа, хотя еще вчера я видел его живым.
Инквизиторы рванулись вон через ризницу - ни молитвы, ни святая вода не могли задержать неурочных гостей - епископа настигли на улице - вокруг несчастного клубилось, плевалось, верещало, разлагалось мучительное кодло. Кентербери поднял было руку - перекреститься, но уронил.
Раймон, Маммон, Эстер - Астарта, Наамах, Бегемот, Бальзамированный Корчмарь, Легат - бесстыдная шлюха, даже не третьего, а уже четвертого пола - переполненный гнилью и похотью…
Епископ закрыл глаза и повторял, как заведенный, молитву, словно из слов-оберегов плел кольчугу.
Я стоял за гранью круга, я звал Ноэми - но Наамах хохотала, как солдатская краля, сплетаясь на своей кобыле с Астартой в лесбийской похоти - скучной, как домашнее задание.
Маммон крутил ручку астматической шарманки, расстроенной, судя по всему, со времен Великого потопа.
Бегемот отъел Висельнику вторую руку, но удавленник не унывал, а заявил, что его повесили за сожительство с пятью тамплиерами одновременно, а руки ему и при жизни не были нужны, тут он просто, как обезьяна, употребил Легата, задрав фрачные фалды - надкрылья,
Легат стыдливо закатывал уцелевший глаз.
А Бегемот, выпучив пузо, вопил:
- Во имя хлеба и сыра и спиртанаго духа! Ам-ням!
Я отшатнулся и упал на колени - происходящее было всего лишь частью ошалевшей и фальшивой игры, даже пик сатанинского разгула был несерьезен .
Ночь перекликалась запахами корабельных сосен и озерной зелени, в висках моих стучало муторно и часто, я испугался мигрени.
Как жаль, моя прекрасная, что я разучился молиться.
Неужели, не осталось ничего чистого, никакой живой жизни, кроме Игры?
- А чем платят за Игру?
- тот, кто задал этот вопрос стоял за моей спиной вне факельных отблесков, я обернулся. Говорили не со мной - двое в тени вели давно начатый разговор - одного я узнал по голосу - то был Бартоломеус - врач, никак не измененный дьявольской прихотью, все такой же скрытный с мягким приятным лицом, в неизменной коричневой фуфайке.
Читать дальше





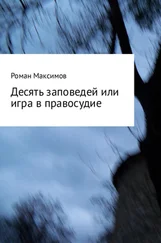
![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)



