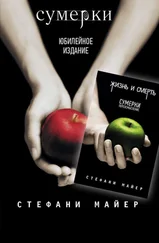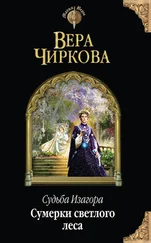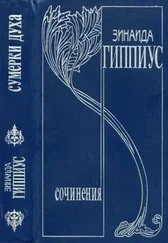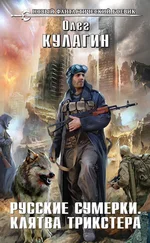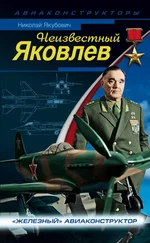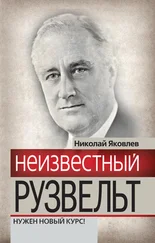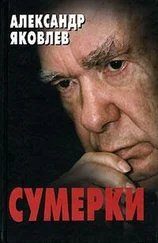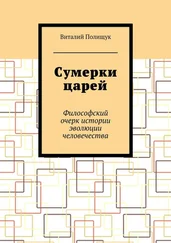В голове бушевала метель. В этой вьюге разных противоречивых размышлений у меня постепенно брали верх собственные оценки тех или иных явлений, фактов. Они создавали базу для сравнений, внутренних диалогов, помогали разрушать разного рода стереотипы, воспитывали отвращение к догмам любого вида, включая прежде всего господствующие — марксистско-ленинские. Поражали агрессивность и нетерпимость этих догм, рассчитанных не на творчество и разум, а на слепое подчинение и поклонение.
В результате я пришел к собственному догмату, имя ему — сомнение. Нет, не отрицание, а именно сомнение, постепенно раскрепостившее меня. Знаю, что в этом нет ничего нового — ни философски, ни исторически, ни практически. Но все дело в том, что мое сомнение — это мое сомнение, а не навязанное извне. Я сам его выстрадал. Истину может уловить только сомнение, равно как и отторгнуть догму. Сам человек делает из доступной ему истины или надежду, ласкающую разум и душу, или чудовище по своему подобию, наряжая истину в лживые демагогические одежды. Созидающее сомнение бесконечно в своих проявлениях. Так случилось и со мной. У меня появилась тьма вопросов, нудных, острых, но чаще всего — по существу жизни и конкретных событий. А вот ответы (для меня самого, конечно) и формировали мое, подчеркиваю, мое мировоззрение, иными словами, логику здравого смысла, как я ее понимал.
Я с горечью начал задавать себе трудные, мучительные вопросы. Почему в моей стране массами овладели утопии, почему история не захотела найти альтернативу насилию? Почему столь грубо, цинично растоптаны идеи свободы? Почему оказались общественно приемлемыми уничтожение крестьянства, кровавые репрессии против интеллигенции, экологическое варварство, разрушение материальных и духовных символов прошлого? Почему сформировалась особая каста партийно-государственных управителей, которая паразитировала на вечных надеждах человека на лучшую жизнь в будущем? Почему человек столь слаб и беспомощен? И можно ли было избежать всего, что произошло? Почему многие из нас аплодировали бандитизму властей, верили, что, только уничтожив «врагов народа», их детей и внуков, можно обрести счастье? Почему наша страна так безнадежно отстала?
Убежден: было бы очень полезно для будущего страны, если бы нынешние правители России почаще задавали себе подобные вопросы.
Экскурсию в прошлое я сделал, повторяю, по той простой причине, чтобы объяснить мою позицию, когда я вижу, как легко и бесхозяйственно растрачивается накопленный опыт, разрушается с трудом добытая демократическая система координат, обрезаются еще хилые побеги новых ценностей, как радуются «новому курсу» старые и новые противники демократии. Надо признать, что курс на «ползучую реставрацию» ложится на удобренную почву. Удобренную главным образом большевистским прошлым. Но не только. Ошибками демократов — тоже.
В 1985 году страна двинулась к свободе. Отбросила в сторону уголовные статьи из кодекса советской жизни — о насилии, классовой борьбе, революциях, диктатуре пролетариата. Крушение тоталитарной системы создало условия для строительства демократического, правового, либерального общества и государства. Со свободными выборами, парламентаризмом, свободой слова и творчества, с нормальным рынком, без страха перед ядерным противостоянием. Только работай, богатей и радуйся. Соберись с духом — и все пойдет как надо.
Ан нет. Нам совсем и не надо, как надо. Мы не знаем, как надо. Нам не хочется слезать с баррикад, ох, как не хочется. И снова жажда авторитаризма, тяга к революционным скачкам, рождающим авантюризм, а вместе с ним — безродного, бездушного чиновника, захватившего, как и в прошлом большевики с карателями, власть в стране. Почему?
А все потому, что Россия находится в состоянии давнего противоборства двух основных тенденций — либерализма и авторитаризма. Причем авторитаризм в той или иной форме постоянно берет верх и держит Россию в нищете и рабстве, а либерализм всегда был преследуем властью. Авторитаризм, по сути своей, объективно, исполнял роль «пятой колонны», саботирующей и тормозящей естественный ход исторических событий.
К сожалению, российский либерализм в практической политике всегда отличался непоследовательностью. Например, в начале и середине XIX века либералы (Сперанский, Чичерин и др.) поддерживали доброго царя, как только в его действиях появлялся хотя бы намек на возможность реформ. И уходили в тень, если монарх от таковых отворачивался. Но в принципе взгляды не менялись: сохранить самодержавие в форме конституционной монархии, отменить крепостное право и распустить крестьянскую общину как зародыш социализма, расширить права всех сословий, снизить налоговое бремя.
Читать дальше