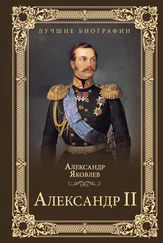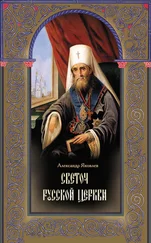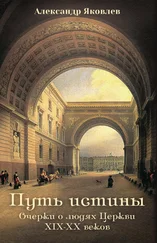Александр Николаевич, прибывший в Ниццу в Страстную субботу, был поражен состоянием сына, но переживал по-своему. Для него Никса был не только родной кровинкой, но и наследником, долженствующим продолжить и развить начатые реформы. На Никсу в семье всегда смотрели особенно, ему уделяли больше внимания, его готовили к царской доле, и, что скрывать, по способностям и воспитанию своему он более других царских сыновей отвечал предстоящей деятельности. Высокий белокурый красавец обладал ясным умом, был добр, мягок, но не безволен, главное же — это чувствовал отец,— Никса в последние годы проникся сознанием важности предстоящего ему высокого служения... Александр Николаевич старался сдерживаться при жене, но в ее отсутствие горько плакал. Никса пошел бы дальше его!..
Впервые пасхальная ночь в царской семье прошла в слезах.
Под утро Никса впал в беспамятство. Вытянувшись в полный рост, он тяжело дышал и то тянулся подняться, то обессиленно поникал на подушки. Отец не решился зайти за ширму, а Мария Александровна, старательно вытерев слезы, подошла к изголовью. Никса вдруг открыл глаза.
— Ма...— прошептал ласково.
Она вытерла бусинки пота на высоком лбу, а он с усилием повернул голову и стал целовать ее руку, по обыкновению каждый палец отдельно.
— Бедная ма, что ты будешь делать без твоего Ники? — с ужаснувшим ее спокойствием спросил он. В глазах сына она увидела не то отрешенность от всего, не то обращенность к чему-то...
За ширмой послышался звук сдерживаемых рыданий.
8 мая 1855 года Филарет писал обер-прокурору, не зная, что дни Ахматова на этом посту сочтены: «Да будет всем известно, что если бы начальство рассудило уволить меня от дел и поставило на моем месте деятельнаго, надеюсь, я принял бы сие с миром и, может
быть, с пользою для меня; только бы сие было не по моей воле, а по рассуждению власти».
В скит! В скит хотелось! Там закрыться наконец, ибо кто ведает, сколько еще отпущено ему, за каждый прожитый день благодарил он Всевышнего, и — уйти в молитвенное безмолвие и сосредоточенность. Но Ахматова заменили, а его оставили.
Митрополит сидел в своем кабинете в кресле. Перед отъездом в Гефсиманию решил разобраться со всеми накопившимися делами, и вдруг впервые за всю жизнь возникла мысль: а не оставить ли их нерешенными? Как же он устал...
Стоял за Церковь перед государем Александром Павловичем, лет сорок назад написал для него проект о создании митрополичьих округов, что сильно бы увеличило самостоятельность Церкви, но — не успел государь. Не уступал, покуда мог, при государе Николае Павловиче, верном христианине, при коем, однако, за внешним почитанием и благополучием Синод стал вовсе помыкать Церковью, подчиняя ее нуждам мирской власти и вольно или невольно лишая ее священного покрова, убавляя к ней усердие православных... Думалось, нынешний государь добр сердцем, чист, веру имеет несомненную — вот и перестанет смотреть на Церковь как на одно из учреждений, увидит в ней образ горнего Иерусалима, снимет с нее гнет государственный... Как достучаться до его сердца? Как открыть очи ему?..
Снял очки и посмотрел на викария.
— Стерпеть ли, чтобы можно оказать полезное для Церкви, или возражать, а затем идти в отставку, ибо совершенно верно, что в Петербурге не послушают?
— Перетерпим,— улыбнулся ответно владыка Леонид.
— А помните, как в Откровении Иоанновом говорится, что пытаться будут цари земные и всякий раб укрыться в пещерах и ущельях гор от гнева Господня и не смогут... Боюсь, на нас и пещер не хватит.
Святитель видимо дряхлел телом. На Пасху в 1866 году уже недостало ему сил для участия в праздничном богослужении, и от горя плакал Филарет.
Была и иная причина для скорби святителя — новый обер-прокурор. Можно было бы сделать худшее назначение, но трудно. Граф Дмитрий Андреевич Толстой в бытность министром просвещения заработал репутацию человека ловкого и опытного, но корыстолюбивого и откровенно неверующего. Приехавший как-то, на Троицкое подворье по делам князь Николай Иванович Трубецкой (сменивший в кресле председателя Опекунского совета покойного князя Голицына) отозвался о новом главе Святейшего Синода нелестно.
— Продвинул его в свое время Муравьев-Виленский, к которому государь сильно благоволил. Впечатление в Зимнем Толстой произвел приятное, но там не сумели разобраться, что се n'est pas un ministre, c'est un roquet'. / Это не министр, а пустобрех (фр.)./
Филарет согласно кивнул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
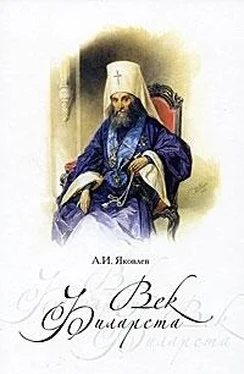

![Александр Яковлев - Осенняя женщина [Авторский сборник]](/books/28535/aleksandr-yakovlev-osennyaya-zhenchina-avtorskij-sborn-thumb.webp)